Часть 2. Карл Радек. Глашатай мировой революции
2.1. На пути в Советскую Россию
Карла Радека трудно описать в привычных категориях — он был дипломатом и революционером, журналистом и агитатором, человеком с огромной эрудицией и отвратительным характером. Остается открытым вопрос о том, можно ли его причислить к российским лидерам Коминтерна, по крайней мере, если вести речь о первой половине 1920-х годов, когда он работал в его Исполкоме. Радек успел поработать в польской и немецкой социал-демократических партиях, прежде чем в швейцарской эмиграции встретился с Лениным и стал считать себя большевиком. Но даже после этого Радек оставался «чужим среди своих, своим среди чужих» в российском революционном движении, а затем и в политической элите Советской России.
Наш герой без труда находил общий язык и с генералами рейхсвера, и с простыми рабочими. Его русский на первых порах состоял из ошибок и несуразностей, но именно в этом заключалась привлекательность оратора, который таким образом олицетворял «всемирный замах» российского большевизма. Если можно говорить о типе «безродного космополита», то Радек был его самым точным воплощением. Выходец из среды галицийских евреев, после разделов Польши ставших подданными Австро-Венгерской империи, он достаточно рано разорвал все связи с местечковым миром, в котором вырос, за исключением, пожалуй, еврейских анекдотов, которые на протяжении всей своей жизни рассказывал с завидным мастерством и вдохновением.

Карл Бернгардович Радек
23 июня — 12 июля 1921
[РГАСПИ. Ф. 490. Оп. 2. Д. 304. Л. 1]
Юный Карл Собельсон, взявший себе псевдоним одного из литературных героев, верил не столько в законы исторического материализма, которые отводили решающую роль чуждому ему рабочему классу, сколько в собственную избранность, способность четче других видеть ключевые линии общественного развития и международных отношений. В отличие от его оппонента Г. Е. Зиновьева, которому не посвящено ни одной достойной биографии, Радек становился и героем художественных реконструкций[211], и главным действующим лицом научно-популярных книг[212], и объектом серьезных исторических исследований[213].
Эпитеты, которыми его награждали сторонники и противники, политики и военные, ученые и публицисты, займут не одну страницу текста. Вот только некоторые из них: «последний интернационалист», «дипломат и интриган», «полуповешенный, полупрощенный», «мастер тайных поручений», «машина зла», «глашатай Коминтерна» и даже «добродушная человекообразная обезьяна». Емкую характеристику Радеку дала Анжелика Балабанова, как и он стоявшая на левом крыле международного социалистического движения, но в отличие от него отказавшаяся идти на поводу у большевиков: «…он представлял собой необыкновенную смесь безнравственности, цинизма и стихийной оценки идей, книг, музыки, людей. Точно так же, как есть люди, не различающие цвета, Радек не воспринимал моральные ценности. В политике он менял свою точку зрения очень быстро, присваивая себе самые противоречивые лозунги. Это его качество при его быстром уме, едком юморе, разносторонности и широком круге чтения и было, вероятно, ключом к его успеху как журналиста. Его приспособляемость сделала его очень полезным Ленину, который при этом никогда не принимал его всерьез и не считал его надежным человеком»[214].
Другую сторону биографии нашего героя подметил в своих мемуарах Густав Хильгер, один из тех немецких дипломатов, которые стояли у истоков советско-германских отношений в начале 1920-х годов. «Радек был известен всей Москве своей безрассудной и дерзкой критикой, которой он подвергал людей и дела, которые он не любил, и своими язвительными шутками, которые он сочинял об этом. Его жалящие остроты переходили из уст в уста, а через какое-то время всякую антисоветскую шутку, которую рассказывали в Москве, приписывали Радеку. Я верю, что это было одной из причин, по которым у Сталина, не имевшего чувства юмора в таких вещах, возникла ярая ненависть к этому нахальному шуту, которого он никогда не любил за то, что тот был фаворитом Ленина и сторонником Троцкого»[215].
Ленин ценил быстрый ум и политическую эрудицию Радека, но причислял его к числу «левоглупистов»[216] и старался не подпускать к себе слишком близко. Критикуя его за «торопливую податливость» и за легковесность суждений, вождь большевиков умело использовал эти качества «самого зубастого» человека для выстраивания выгодного для себя параллелограмма сил среди своих соратников.

Карл Радек с дочерью Софьей
Не ранее 1925
[РГАСПИ.
Ф. 326. Оп. 2. Д. 50. Л. 38]
В ходе внутрипартийной борьбы середины 1920-х годов Бухарин часто использовал свои воспоминания о встречах с вождем как политическое оружие. Не был исключением и следующий сюжет: «Во время профсоюзной дискуссии Ленин говорил: иногда бывает нужно какие-нибудь разногласия изжить в верхушке партийного руководства и не выносить их на широкое обсуждение. Он очень не любил Радека и говорил, что Радек своим языком выносит все на улицу»[217]. Нет никаких оснований не доверять этому воспоминанию — наш герой не просто был главным транслятором слухов и сплетен, но и активно использовал их в своих интригах.
Выросший без отца в весьма стесненных условиях, наш герой пошел по пути многих еврейских разночинцев, пытавшихся не приспособиться к реалиям враждебного мира, а переделать его под себя. Юноша экстерном окончил гимназию, успел побывать членом трех социал-демократических партий Европы, поучаствовать в революции 1905 года и больше полугода провести в варшавской тюрьме. Перебравшись после освобождения из нее в Германию, Радек попытался сделать карьеру в СДПГ, однако вступил в конфликт с Розой Люксембург и по обвинению в растрате партийных денег был исключен из этой партии[218].
Радек не потерял своей политической родины — у него ее попросту не было. Его родиной была революция, которая, как и он сам, кочевала из одной страны в другую. «Русская революция, с которой я был связан участием в рабочем движении в Царстве Польском 1905–1908 годов, стала для меня первым уроком массовой революционной борьбы и, как таковая, исходным пунктом в постановке вопросов германской революции»[219]. Отойдя в предвоенные годы от активной партийной работы, он считался одним из самых радикальных критиков международных отношений предвоенной эпохи. Острое перо Радека, разоблачавшее интриги империалистических держав на пути к августу 1914 го-да, сделало его заметным публицистом в социалистическом рабочем движении Европы.
Будучи австрийским подданным, с началом мировой войны Радек должен был попасть под всеобщую мобилизацию. Он избежал ее, укрывшись в нейтральной Швейцарии. Там и состоялась его судьбоносная встреча с Лениным и другими лидерами большевистской фракции РСДРП. Жизненные передряги научили Радека ценить покровительство людей с харизмой пророка и вождя, и он сразу же стал горячим сторонником ленинской линии, не без основания рассчитывая на взаимность. Вместе с Лениным Радек стоял на левом фланге Циммервальдского движения, олицетворявшего пацифистские устремления тех европейских социалистов, которые осудили соглашательский курс партий Второго Интернационала.

Анжелика Балабанова
Художник И. И. Бродский
1920
[РГАСПИ. Ф. 489. Оп. 1. Д. 68. Л. 48]
После свержения монархии в России вместе с политическими эмигрантами Радек получил место в «пломбированном вагоне» и отправился в страну, которую до того не видел и не знал. Вопреки всем запретам он не раз выскакивал из вагона на немецких станциях, пытаясь распропагандировать даже сопровождавших поезд солдат. В то время как остальных пассажиров пропустили в Петроград, Радек остался на шведско-финской границе, паспорт подданного Австро-Венгерской империи вызвал у пограничников опасения, не пробирается ли в Россию под видом революционера обычный шпион.
В результате Октябрьский переворот наш герой встретил в Стокгольме, где вместе с еще одним известным политэмигрантом, примкнувшим к большевикам, — Вацлавом Воровским организовал издание бюллетеня «Вестник русской революции». Его вера в близость всемирного переворота, творцом которого предстояло стать соединенным пролетариям всех стран, опиралась на инстинктивное ощущение краха старого мира.
В столице Швеции в сентябре 1917 года состоялась конференция левых социалистов-интернационалистов, входивших в Циммервальдское движение. Хотя в повестке дня стояли антивоенные акции, дискуссия вращалась вокруг событий в России. Секретарь Циммервальда Анжелика Балабанова, организовавшая конференцию, в своих воспоминаниях особо отмечала острую полемику между Радеком, отстаивавшим курс большевистской партии на скорейший захват власти, и оппонировавшим ему меньшевиком П. Б. Аксельродом.
«Хотя мы и презирали лично Радека и считали его вульгарным политиком, мы знали, что на карту поставлена судьба русской революции, а в этот момент эта революция была единственной искрой света на черном горизонте»[220]. Такую точку зрения разделяло большинство участников конференции, проголосовавшее за лозунг всеобщей политической стачки, которая должна была начаться одновременно во всех воюющих странах.
2.2. «Ваш до виселицы» — Карл Радек в Москве
Прибыв в Петроград сразу же после захвата власти большевиками, Радек получил от Ленина первое государственное поручение. В декабре 1917 года он вместе с Троцким отправился на второй тур переговоров о мирном договоре с Германией, которые шли в Бресте. Его включили в состав советской делегации не как дипломата, а как пропагандиста. По прибытии на вокзал Радек из открытого окна вагона начал разбрасывать пачки прокламаций, адресованных немецким солдатам. Позже в ходе переговоров он заявил генералу Максу Гофману, одному из командующих германской армией на Востоке: «Вы еще получите свой Брест!»[221]
Хотя власть большевиков в начале 1918 года висела на волоске, их германские контрагенты также были озадачены событиями в Берлине и Вене, где разразились массовые забастовки рабочих оборонных предприятий. В оккупированном немцами Бресте можно было достать немецкие газеты, и Радек буквально прирос к телеграфному аппарату, передавая в Петроград последние новости, препарированные в ура-революционном духе. Так, 4 февраля он сообщал Ленину о том, что «в Берлине продолжаются столкновения с полицией, которая старается противодействовать попыткам бастующих прервать трамвайное сообщение. Демонстрации продолжаются. В Берлине арестовано 130 человек. На помощь полиции призваны войска… В Кельне, Данциге, Мюнхене власти согласились на непосредственные переговоры с представителями бастующих». Военные власти объявили, что все рабочие, которые не вернутся на оборонные заводы, будут отправлены на фронт[222]. Все эти новости немедленно появлялись в советской прессе, порождая среди большевиков необоснованные надежды на то, что германская революция вот-вот разразится, надо только «день простоять, да ночь продержаться».
На этой основе в ЦК РКП(б) сформировалась фракция «левых коммунистов», которые выступали за то, чтобы прервать переговоры и готовиться к революционной войне с Германией. Промежуточную позицию занял Троцкий, считавший, что мира заключать не следует, чтобы не потерять свой авторитет среди зарубежных социалистов, но и от возобновления военных действий нужно всячески уклоняться. На первых порах именно эта точка зрения («ни войны, ни мира») собирала большинство при голосованиях.
Однако германская сторона вначале предъявила ультиматум, а потом и перешла в наступление. Сторонник Троцкого Адольф Иоффе (будущий советский полпред в Берлине) так скорректировал позицию оппонентов заключению мира, во многом рассчитанную на революционный «авось»: «Прощупывать немецких империалистов действительно уже поздно. Но прощупывать германскую революцию еще не поздно. Мы никогда не ждали, чтобы сам факт наступления [немцев. — А. В.] вызвал революцию. Я вчера думал, что немцы наступать не будут; раз они наступают, то это полная победа империализма и милитаристических партий…» Но подписать мир под диктатом германского штыка придется лишь в том случае, если этого потребуют народные массы. «Пока этого нет, мы по-прежнему должны бить на мировую революцию. Немцы нам многого наделать не могут»[223].
В ходе внутрипартийной дискуссии о Брестском мире Радек примкнул к «левым коммунистам», однако в конечном счете был вынужден признать, что сил для организации обороны у Советской России нет. «Господа германские дипломаты совместно с германскими генералами решили распять на брест-литовском кресте Россию, решили показать русскому народу, что значит освободиться от ига собственного капитала, но не иметь в руках винтовки против чужих хищников»[224]. В этих словах звучит искренняя боль по поводу собственного бессилия и одновременно уверенность в том, что рано или поздно большевики расквитаются со своими обидчиками.

Адольф Иоффе — глава советской делегации во время переговоров в Бресте
Конец 1918
[АВП РФ. Ф. 028. Оп. 2. П. 7. Д. 1. Л. 1]
Смирившись с подписанием сепаратного мира и признав правоту Ленина, Радек сосредоточил свою деятельность на пропаганде среди военнопленных и внешнеполитической аналитике. Созданная весной 1918 года Федерация иностранных групп при ЦК РКП(б) фактически являлась составной частью партии большевиков. В нее входили находившиеся на территории Советской России иностранцы, разделявшие идеи мировой революции и занимавшие те или иные посты в советских и партийных органах. Постепенно в их руках сосредоточилась агитация в лагерях военнопленных. Немецкую группу возглавлял австриец Карл Томан, ее курировал лично Карл Радек, постоянно писавший листовки и брошюры, которые затем распространялись на линии фронта. Интересно, что финансировалась пропаганда в том числе из средств Антанты, информационное бюро США, которое возглавлял Эдгар Сиссон, давало Радеку немалые деньги на закупку печатных машин[225].
Немецкая группа издавала газету «Мировая революция», ее тираж доходил до 36 тысяч экземпляров[226]. Из числа «перековавшихся» военнопленных готовились агитаторы, которые вели свою работу не только на демаркационной линии, но и в тылу германских войск. Хотя в советской историографии подчеркивались идеальные мотивы будущих коммунистов, спектр настроений оказавшихся в России австрийских и немецких солдат был гораздо более широким. «Большая их часть вступила в партию недавно из-за благ и привилегий, которые влекло за собой членство в ней», — отметила Балабанова, посетив бюро Радека в Наркомате иностранных дел[227]. «Пропаганда не имеет особого успеха среди военнопленных, большинство из них только делает вид, что принимает большевистскую веру, чтобы добиться человеческого обращения с собой и приблизить отъезд», — утверждалось в одном из донесений германского посольства[228].
Однако массированная агитация среди военнопленных не проходила бесследно, отбор активистов, пусть даже заинтересованных прежде всего в скорейшем возвращении на родину, приносил свои плоды. Федерация иностранных групп при ЦК РКП(б) стала кузницей будущих кадров Коминтерна, наряду с Эрнстом Рейтером[229] в нее входили братья Вернер и Николай Раковы. Как проживавшие в России германские граждане они были интернированы в Сибирь, после Октября вступили в большевистскую партию и отправились в Германию продвигать вперед мировую революцию[230].
Радек недолго находился в опале за свою оппозицию брестской политике Ленина — вождь РКП(б) умел ценить полезных людей, которых после захвата власти большевиками и их отказа от сотрудничества с другими социалистическими партиями катастрофически не хватало. Его полемический дар (при том что родным языком Радека был польский, и он едва разговаривал по-русски) был востребован в условиях нараставшей с каждым днем пропаганды «светлого будущего», которое уже наступило в России и вот-вот должно было наступить во всемирном масштабе.
В первомайском номере правительственной газеты «Известия» Радеку уже пришлось объяснять советскому читателю заминку в данном процессе. Русская революция, утверждалось в передовице, с первого дня отдавала себе отчет в том, что ей в одиночку не вырваться из тисков мирового империализма. Прошел уже год с момента свержения самодержавия, но европейские пролетарии не пришли к ней на помощь. Частично в этом были виноваты деятели демократического этапа революции — «ее соглашательский период и связанное с ним ее барахтание в сетях союзного империализма задержали рост мировой революции»[231].
Однако это не повод для того, чтобы опускать руки и бросать винтовки, обвиняя большевиков в том, что их программа потерпела крах. «С историей нельзя ссориться, ее надо понять», — утверждал автор, не спуская взгляда с Германской империи. Следует спокойно разобраться в причинах временного одиночества революционной России. Среди них Радек ставил на первое место доминирование в европейских странах рабочей аристократии, представителей которой не бросали в окопы мировой войны. Выросшие на ее основе партии «буржуазных преторианцев» оказались гораздо сильнее российских соглашателей, время которых закончилось в Октябре.
Второй причиной того, что русский пролетариат оказался изолированным, называлась мощь германской военщины и бюрократии, т. е. «сил старого феодализма, принятых к себе на службу капитализмом и переродившихся в процессе капиталистической ассимиляции». Простая и доходчивая схема, щедро приправленная марксистской терминологией и умноженная усилиями тысяч партийных агитаторов и комиссаров, становилась национальной идеей новой России. Миллионы людей считали, что нужно «только день простоять, да ночь продержаться» — до тех пор, пока на подмогу не придет международный рабочий класс. Частью этой идеи было наличие у России «страшной военной тайны», которая обеспечивала ее непобедимость[232].
Очевидное поражение в мировой войне и «похабный мир» с немцами в такой трактовке оказывались лишь незначительными сюжетами в масштабной исторической драме, летописцем которой считал себя Карл Радек. Многие из его аргументов и выводов подхватывали Ленин и другие лидеры партии большевиков. В них было немало оригинального и справедливого. Ожесточение мировой войны, вызванное тем, что велась она по принципу «всё или ничего»[233], в статье Радека получало необычное обоснование: империалистические державы не могут заключить компромиссного мира, опасаясь, что такой мир ускорит европейскую революцию. Действительно, получилось так, что революцию и крах своих империй (Германской, Австро-Венгерской и Османской) получили только побежденные, в то время как державы-победительницы обошлись без социальных потрясений, упрочив свои позиции на мировой арене.
2.3. На службе в Наркоминделе
Став главой Среднеевропейского отдела Наркомата иностранных дел по протекции Адольфа Иоффе, который в апреле 1918 года отправился советским полпредом в Берлин[234], Радек с энтузиазмом принялся осваивать новую для него сферу практической политики. Превратившись в официальное лицо, он стал писать под псевдонимом Viator (Наблюдатель), но тональность и аргументация его регулярных статей в «Известиях» не изменилась ни на йоту. По его передовицам (иногда не подписанным, но внимательные читатели и профессиональные дипломаты легко узнавали фирменный радековский стиль) в германском посольстве и европейских столицах определяли внешнеполитический курс и настроения официальной Москвы.
В период кризиса, вызванного ультиматумом германской стороны о возвращении кораблей Черноморского флота из Новороссийска в Севастополь, Радек подчеркивал принципиальное отличие советской дипломатии от дипломатии западных стран. Нас волнуют не территориальные, а социальные изменения, выходящие за рамки отдельных государств. Германия тем временем продолжает скрытные попытки удушения русской революции, «ее военная партия добивается не дани, наложенной Брестским миром, а жизни России», — утверждала статья «Берлинские переговоры», появившаяся в «Известиях» 5 мая 1918 года.
Она была расценена в германском МИД как директива, данная советской делегации на предстоявших переговорах о Добавочном договоре к Брестскому миру[235]. «Между нами и буржуазными правительствами нет и не может быть никаких тайн», — писал Радек в данной статье, хотя именно этот договор, который будет подписан менее чем через три месяца, впервые в истории советской внешней политики содержал секретное приложение — обмен тайными нотами, на который пошли берлинские переговорщики, чтобы скрыть намечавшееся военное сотрудничество двух государств против английского десанта на Мурмане и Добровольческой армии на Северном Кавказе[236].
В самые критические моменты Гражданской войны Радек сохранял, по его собственным словам, спокойствие висельника[237], что не могло не импонировать большевикам с дореволюционным стажем. Жар полемиста, неприкрытый цинизм и черный юмор сочетались в его публицистике с уверенностью в окончательной победе Советской России над враждебным окружением. Массового читателя, не искушенного в большой политике, подкупала нарочитая простота и плакатность аргументов Радека, коллегам по Комиссариату иностранных дел импонировала его хладнокровная аналитика.
Так, он справедливо указывал на то парадоксальное обстоятельство, что брестское насилие над Россией не только стало фактором, развязавшим в стране гражданскую войну, но и «значительно подняло волю к защите народных масс стран Антанты, и таким образом укрепило положение империалистических элементов этих стран». В результате мыслящие круги немецкой буржуазии стали подумывать о пересмотре достигнутых под дулом пистолета договоренностей, сформировавших недолговечную Брестскую систему[238]. Утверждение, что порожденная ею «волна ненависти на Востоке может нагрянуть на Германию в момент ее сверхчеловеческого напряжения, в момент ее ослабления»[239], менее чем через полгода стало выглядеть как самосбывающееся пророчество.
Характерным примером первых шагов Радека на дипломатическом поприще является его «секретная записка» от 7 мая 1918 года, адресованная всем лидером РКП(б) и посвященная состоянию международных отношений на исходе Первой мировой войны. В духе «реальполитик» ее автор подвергал ревизии ключевую ленинскую установку на лавирование между воюющими коалициями, которое должно было обеспечить Советской России мирную передышку: «Взгляд, что вражда между обоими империалистическими лагерями представляет какую-нибудь охрану для России, оказался вполне иллюзорным именно потому, что немцам не удалось победить на Западном фронте, и что им предстоит еще период длительной борьбы, они принуждены пытаться сделать из России свой Hinterland [тыл. — А. В.]»[240].
Германский ультиматум, обещанный Радеком в «секретной записке», отнюдь не содержал в себе требований денационализации банков и внешней торговли Советской России, как предполагал автор. Германские дипломаты трезво оценивали «марксистское прожектерство» большевиков и рассчитывали на то, что их скороспелые реформы автоматически доведут российскую экономику до полного краха. А следовательно, можно было просто подождать, чтобы созревший плод упал и разбился.
В своих аналитических построениях Радек настаивал на том, что германская армия вот-вот вторгнется в Центральную Россию, чтобы по примеру Украины посадить там марионетку по типу гетмана Скоропадского. Но даже такой вариант не означал конца большевистской диктатуры: «Отклонив германский ультиматум, мы принуждены будем без всякого серьезного сопротивления очистить Россию по линии Волги, перенеся правительство в Самару или Екатеринбург, и сделать базой действий Поволжье». И здесь Карл Радек не был слишком оригинален, подобные проекты курсировали во фракции «левых коммунистов» накануне подписания Брестского договора.

Карл Бернгардович Радек
Художник И. И. Бродский
1920
[РГАСПИ. Ф. 489. Оп. 1. Д. 68. Л. 34]
Многочисленные внешнеполитические меморандумы, составившие немалую часть эпистолярного наследия нашего героя, не отличались логикой и последовательностью. Трезвые размышления перемежались трафаретными лозунгами, а сама записка 7 мая заканчивалась патетическим трюизмом: «Советское Правительство стоит теперь перед выбором: полная капитуляция или борьба не на жизнь, а на смерть». Стремление понравиться всем и вся, безудержный пафос и слабо прикрываемый цинизм делали Радека весьма востребованной политической фигурой второго плана в кризисные моменты становления революционной диктатуры большевиков.
Искушенный во фракционных интригах, наш герой сразу же после своего назначения в Наркоминдел «взял быка за рога». Он попытался выступить в роли правой руки наркома, а также стать куратором советского полпреда в Берлине — тот был живым воплощением единственного «окна в Европу», которое оставалось открытым для большевиков. Однако и Чичерин, и Иоффе быстро поставили амбициозного карьериста на место, хотя и не отказывались от его услуг там, где считали это необходимым.
Неудержимая энергия Радека, плохо сочетавшаяся с рутиной дипломатической работы, вызывала у берлинского полпреда растущее раздражение, и Иоффе неоднократно жаловался в Москву: я посылаю вам сотни запросов, «вы на все это даже не отвечаете. Так работать нельзя! Что же Вы хотите, чтобы я просто принимал тут с немцами решения, не считаясь с Вами?! Ведь придется так поступать. Не могу же я серьезно считаться с планами Радека и его указаниями, чтобы я ждал его „решений“»[241]. В другом письме Иоффе писал Чичерину: «Я очень сожалею, что добился от Вас назначения Радека, который вместо того, чтобы информировать меня о положении дел, за что он взялся, считает нужным только сообщать мне о своих личных гениальных планах и проектах»[242].
На первых порах Радек умело лавировал между наркомом и полпредом, однако нараставший конфликт между ними поставил его перед необходимостью выбирать чью-то сторону. Наученный горьким опытом брестской оппозиции, он предпочел поддержать сильнейшего. В тех условиях это означало политического деятеля, беспрекословно следовавшего ленинским указаниям. Таковым был Чичерин, лично преданный вождю большевиков, за что последний гарантировал ему полную поддержку. Даже в самые острые моменты конфликта между наркомом и полпредом Ленин увещевал последнего: «Работать с Чичериным можно, легко работается, но испортить работу даже с ним можно… Вы не считаетесь с ним, а без ведома и разрешения наркома иностранных дел, конечно, послы не вправе делать решающих шагов»[243].
Принятие стороны наркома привело к дальнейшему охлаждению отношений Радека с полпредом Иоффе. Уже 28 мая 1918 го-да он писал последнему: «Ваше согласие на устройство всяких комиссий в Берлине нас крайне беспокоит. Оно означает перенесение Комиссариата иностранных дел в Берлин. Так как Вы не можете быть в курсе этих всех вопросов, придется послать каких-нибудь пятьдесят человек. Я лично заявляю, что если это случится, я брошу работу и буду публично против этого. Нельзя в столице победителя концентрировать дел побежденного»[244]. К июлю легко ранимый и обидчивый Иоффе[245] вообще перестал информировать руководителя Среднеевропейского отдела НКИД о положении дел в Берлине. Их отношения вернулись в нормальное русло только в октябре, когда на повестке дня оказалась революция в Германии, в вопросах подготовки которой Радек разбирался лучше, чем кто бы то ни было в Москве. Но об этом речь пойдет ниже.
Пока же Чичерин в переписке с Берлином защищал Радека от нападок Иоффе, признавая, что его сотрудник — явление уникальное и весьма далекое от канонов дипломатии. В ответ на очередную жалобу полпреда нарком отвечал, что благодаря шокирующим манерам и бесцеремонности Радек добивается у сотрудников германского посольства в Москве того, чего не удается сделать по обычным дипломатическим каналам. При этом Чичерин не скрывал, что мириться с подобными эскападами его заставляет чрезвычайность ситуации в стране: «Вы забываете обстановку нашей работы, как раз дефекты Радека делают его особо ценным»[246].
Если говорить о радековских адресах в Москве 1918 года, то это прежде всего здание гостиницы «Метрополь», где находился Наркоминдел. Вторым знаковым адресом стал особняк предпринимателя Берга в Денежном переулке на Арбате, который был реквизирован большевиками для размещения там посольства Германии. Именно в гостиной этого особняка 6 июля левоэсеровскими террористами был убит посол граф Мирбах. Радек первым из лидеров РКП(б) после удавшегося покушения оказался в Денежном переулке, вслед за ним туда прибыл и Ленин. Согласно воспоминаниям германского военного представителя майора Карла фон Ботмера, именно появление Радека «в боевом облачении», обвешанного гранатами, помогло не допустить паники среди персонала, которая грозила обернуться дальнейшими жертвами[247].
Председатель Совнаркома выдал сотрудникам германского посольства охранную грамоту за личной подписью и направил полпреду Иоффе следующую телеграмму: «Сегодня в 2 часа дня двое неизвестных, пробравшись с подложным документом от Чрезвычайной комиссии в германское посольство, бросили бомбу в кабинет графа Мирбаха. Граф Мирбах, тяжелораненый, скончался. Правительство, представители которого немедленно посетили германское посольство и выразили ему свое негодование по поводу этого акта политической провокации, принимает все меры к обнаружению убийц для предания их чрезвычайному Революционному трибуналу. Усилены меры для охраны немецкого посольства и германских граждан»[248].
Действительно, после убийства Мирбаха здание германского посольства превратилось в осажденную крепость. Из окрестных домов были выселены жильцы, во всем квартале оборудованы пулеметные гнезда. Оставшиеся дипломаты усилили давление на советское правительство, требуя сатисфакции. Первоначально речь шла об отзыве посольства, но кайзер Вильгельм II высказался против такого шага, настаивая на необходимости дальнейшей поддержки большевиков «при любых условиях». После этого акцент в нотах германских дипломатов был перенесен на обеспечение достаточной охраны персонала дипломатической миссии[249].
13 июля посланник Курт Рицлер, ставший местоблюстителем посла, сообщал в Берлин, что Чичерин признал ненадежность красноармейцев, участвующих в охране здания в Денежном переулке, и обещал по мере возможности заменить их латышскими стрелками. «У меня складывается впечатление, что ввиду признания своей слабости правительство впало в апатию»[250]. Это никак не относилось к Радеку, энергия которого не знала границ. Именно он встретил на подступах к Москве нового посла Германии Карла Гельфериха (чтобы не стать жертвой очередного теракта, тот вышел из поезда на подмосковной станции Кунцево) и провожал его до границы на обратном пути в Берлин, куда Гельферих вернулся уже спустя десять дней. Посол фактически бежал из России, посчитав дни большевиков сочтенными и призывая Берлин и Ставку к возобновлению военных действий на Восточном фронте[251].
Как будто специально именно в момент его отъезда на пограничной станции Орша начался мятеж красноармейских частей, не желавших подчиняться командованию. Радек должен был обеспечить и безопасность Гельфериха, и его свободный переезд на германскую сторону линии фронта. Ему удалось и то, и другое, 8 августа он докладывал Чичерину: «Местный дебош совсем ничтожного характера ликвидирован без кровопролития, с музыкой провожал Гельфериха до демаркационной линии. Известите Рицлера, что он беспрепятственно проехал. Продолжительный разговор с ним оставил у меня успокаивающее впечатление»[252]. Это подтвердил Чичерин в телеграмме полпреду Иоффе: «Гельферих отрицал самым категорическим образом существование какой-либо перемены фронта немецкой дипломатией… Немецкое правительство знает великолепно, сколько сил у него потребовала бы оккупация Северной России, он знает, что мы никогда не могли бы на это согласиться»[253].
На самом деле Гельферих переиграл Наркоминдел, попросту обманув советских дипломатов своим заявлением, что едет всего на пару дней с докладом в Берлин, а германское посольство отправляется в Петроград в силу того, что оттуда его проще будет эвакуировать в случае захвата Москвы проантантовскими силами. На самом деле Гельферих больше не вернулся в Советскую Россию, а посольство отправилось через Финляндию в Псков, оккупированный немецкими войсками. Обе страны оказались в состоянии, близком к февралю 1918 года, — «ни войны, ни мира».
Дальнейшие события развивались с головокружительной быстротой, и буквально через неделю наш герой вновь оказался на линии размежевания советских и германских войск. В тот момент, когда Иоффе отправился в Москву с текстом парафированного Добавочного договора, Радек получил шанс хотя бы на несколько дней занять его место. В советской прессе появилось официальное сообщение: «…ввиду необходимости правильного освещения германскому правительству происходящих в России событий, в Берлин командирован заведующий отделом Срединной Европы НКИД тов. Радек, возвращение которого из Берлина совпадет с возвращением тов. Иоффе из Москвы в Берлин»[254].
Вацлав Воровский, приехавший из Стокгольма для того, чтобы заместить Иоффе во время отсутствия того в Берлине, не скрывал своих негативных эмоций из-за новой встречи с Радеком. Чичерин не пожалел бумаги для того, чтобы успокоить советского полпреда в Швеции: «Радек едет только на пару дней. Он не дождется Иоффе, его возвращение в Москву может совпасть с возвращением Иоффе, его миссия носит информационный характер, политических действий он не будет предпринимать, если только с Вами не будет об этом условлено. В той обстановке, в которой Иоффе уехал из Берлина, не было возможности вырабатывать с ним соглашение о миссии специального лица, о которой в моей ленте упоминалось. Мотивы посылки Радека настолько важные, что мелкие соображения не могут приниматься в расчет»[255].
Однако нашему герою удалось доехать только до пограничной станции Орша. Увидеть столицу Германии Радек сможет лишь после свержения монархии Гогенцоллернов. Если в мае 1918 года против отправки Радека в Берлин, которая выглядела как провокация, высказался сам Ленин («предполагалась и моя поездка, но Владимир Ильич не хотел дразнить гусей»[256]), то на сей раз против въезда в страну столь одиозной фигуры выступила германская дипломатия.
Несмотря на откровенную неприязнь к полемическим выпадам Радека, остававшиеся в Москве немецкие дипломаты относили его к представителям «германофильской» линии в руководстве РКП(б). Генеральный консул Гаушильд доносил в Берлин: «Считаю в нынешней ситуации очень важным то, что Радек, который пользуется здесь очень большим влиянием, пусть даже с большевистской точки зрения, но все же демонстрирует решительное понимание немецкого характера и выступает в поддержку германо-российского союза, базирующегося на общности наших интересов»[257].
Радек вернулся в Москву вместе с Иоффе, а собранный им багаж с продовольствием для личных нужд (можно не сомневаться, что немалое место в нем занимала черная икра, бывшая тогда не столько деликатесом, сколько продуктом длительного хранения) дипломатической почтой отправится дальше. Он писал советскому полпреду в Стокгольме Воровскому, который около недели замещал Иоффе: «…прошу Вас ящик с продуктами, который придет на мое имя ближайшим курьером в Берлин, разделить между всеми товарищами», не забыв и про немецких левых социалистов, которые занимались подпольной партийной деятельностью «под крышей» полпредства[258].
2.4. Флагман большевистской пропаганды
Известной компенсацией для «невыездного» революционера стала новая сфера деятельности, которая была поручена Радеку как раз в августовские дни 1918 года. Вместе с Л. Б. Каменевым и Л. С. Сосновским он возглавил Бюро советской пропаганды при ВЦИК, через которое за рубеж должна была идти вся информация о состоянии дел в новой России[259]. Находясь на высоком посту в Наркоминделе, Радек проживал там же, где и работал, совершенно не замечая бытовых неудобств. Пол его когда-то шикарного, но совершенно запущенного номера в «Метрополе» был в несколько слоев устлан зарубежными газетами со следами вырезок и подчеркиваний. Многочисленные гости и посетители неизменно отмечали неряшество и запущенность этой «берлоги», и в то же время признавали, что в ходе бесед с ее хозяином неизменно терпели поражение в интеллектуальной эквилибристике[260].
Карл Радек мастерски манипулировал людьми, которые считали, что находятся с ним в доверительных отношениях. Именно он контролировал работу немногих иностранных журналистов, переехавших вместе с ленинским правительством в Москву, фактически став первым шефом пресс-службы Кремля. Радек запросто приходил к ним домой, принося свежие новости или просто дефицитные продукты. За чаем он говорил без умолку, провоцируя собеседников на ответную откровенность. Вкладывая в их уста свои собственные мысли, он не переставал восхищаться проницательностью иностранцев.
Цель оправдывала средства — в условиях информационной блокады России любая весточка извне ценилась на вес золота. Радек так описывал характер своей работы: «Мы для того и допустили в Россию буржуазных корреспондентов, находящихся в дружественных отношениях с германской дипломатией и не питающих никаких дружеских чувств к социализму и Советскому правительству, дабы из их корреспонденции в немецкой печати узнать, что думает, но чего не говорит германская дипломатия»[261].
Одним из таких корреспондентов был Альфонс Паке, представитель газеты «Франкфуртер цайтунг», который провел почти весь 1918 год в России. Паке считал Радека неисправимым фанатиком мирового масштаба, которого случай забросил на окраину цивилизованного мира. «Он пролетарский еврейский Наполеон. Такой же чужак, как и корсиканец»[262]. Если верить дневнику Паке, его визави в те дни размышлял о судьбах не столько русской, сколько германской революции. Радек считал, что война завершится пролетарским переворотом в странах Центральной Европы, после чего российский и германский рабочий вступят в последний и решительный бой с английским империализмом. Марксистские догмы здесь причудливо сочетались с тактическими соображениями — руководители советской России были крайне заинтересованы в затягивании мировой войны.

Артур Рэнсом
[Из открытых источников]
Еще одним из «полезных идиотов» был известный писатель и журналист Артур Рэнсом, который представлял газету «Манчестер Гардиан» и неоднократно сопровождал Радека в поездках по России. Последний не стеснялся рисовать перед англичанином перспективы «мирового масштаба», не забывая напомнить, что «нужные суммы» для их пропаганды переведены тому через советского полпреда в Стокгольме. Кроме того, голодающая Россия щедро оплачивала Рэнсому переводы пропагандистских брошюр на английский язык.
Немецкий художник и литератор Георг Гросс, лишь однажды побывавшей в кремлевской квартире Радека, оставил проницательные строки о его методе очаровывать людей: «Он знал, как обрабатывать деятелей искусства. Войдя к нему, я увидел на его письменном столе несколько моих книг, как будто он только что их читал. Подразумевалось, что я пойму, будто он, Радек, каждый день по нескольку раз их просматривает. Он осыпал меня лестью, которую я с восторгом принимал — ведь он был большим человеком, а мы, деятели искусства, настолько честолюбивы, что сразу размягчаемся, как только оказываемся неподалеку от центра власти. Вопрос о том, какого цвета власть, красного или какого иного, нам не важен, пока она освещает нас своими милостивыми лучами»[263].
Радек умел говорить со своими западными коллегами открытым текстом, мастерски избегая любой информации, которая могла бы пойти во вред режиму большевиков. Он без стеснения приукрашивал его прочность и внутри страны, и на внешних рубежах. Тот из немногих иностранцев, кто отказывался принимать на веру лубочную картину строительства нового мира, безжалостно высылался из Советской России или как минимум оказывался в информационной блокаде. 14 июля 1918 года Радек телеграфировал из Вологды, где находились посольства стран Антанты, что «иностранным корреспондентам следует воспретить высылку телеграфных сообщений из провинции»[264]. Мир должен был узнавать о происходящем в Советской России только со слов ее собственных представителей или дружественных им лиц.
Новоиспеченный дипломат без труда отказывался от собственных воззрений и безоговорочно принимал чужие, если последние были подкреплены политическим авторитетом и сулили карьерные успехи. Неудавшаяся фронда в период брестских переговоров наложила серьезный отпечаток на дальнейшее поведение Радека. Оставаясь в большевистском руководстве «корсиканцем», он сделал ставку на Ленина и сохранял ему верность до самой смерти вождя.
Если в мае 1918 года Радек еще позволял себе усомниться в оправданности ленинской тактики лавирования между воюющими коалициями («двумя империалистическими лагерями», как утверждала официальная пропаганда), то три месяца спустя он стал уже ее примерным пропагандистом. Урегулирование отношений с Германий, нашедшее свое выражение в Добавочном договоре, подписанном 27 августа 1918 года, обеспечило России передышку, достаточную для восстановления своих сил: «…теперь немцы не тронутся, этого не позволяет им их внешнее положение. Они поняли, что идти на Россию — это значит бросить 25 корпусов в русскую трясину и ничего не получить.
Понятно, в каждый момент наших затруднений они трепещут, что мы падем и приготовляются к занятию [остальных] частей России, но мы справляемся, и они снова с облегчением вздыхают. Опасность, угрожающая нам со стороны союзников, не так велика, как это казалось…. Я глубоко уверен, что мы выйдем из боя победителями. Союзная авантюра кончится растратой союзных сил, больше ничем»[265]. Несмотря на разгоравшуюся Гражданскую войну, позор Брестского мира и международную изоляцию, большевики могли чувствовать себя «третьим радующимся», когда ведущие державы предпринимали последние усилия для достижения решающего перелома на фронтах Первой мировой войны.

Роза Маврикиевна Радек с дочерью Софьей
1920-е
[РГАСПИ. Ф. 326. Оп. 2. Д. 50. Л. 39]
Пересев на конька германской революции, Радек фактически забросил рутинную работу в Наркоминделе. На прощание Чичерину пришлось улаживать международный скандал, главным участником которого оказалась жена Радека Роза Маврикиевна. Чтобы наладить связи со швейцарскими революционерами, с которыми он тесно общался в годы Первой мировой войны, Радек отправил ее в Швейцарию под видом сотрудницы Центральной комиссии по делам военнопленных и беженцев (Центропленбеж). Проведя несколько недель в Берлине, Роза так и не получила разрешения на посещение нейтральной страны. 19 августа ее попытались арестовать, несмотря на наличие дипломатического паспорта, но она отказалась покидать номер отеля.
Узнав об этом, Радек был вне себя. Он потребовал от Иоффе, чтобы тот заявил немецким властям, что в России будут арестованы германские граждане, которых освободят только после извинений Берлина. Советский полпред, который завершал работу над подготовкой Добавочного договора, крайне неохотно взялся выручать жену Радека. Ей срочно придумали дипломатическую миссию, которая обеспечивала ее экстерриториальность, и перевели на жительство в здание полпредства. В переговорах по прямому проводу с мужем она не скрывала, что так и не смогла выполнить подпольных поручений, кроме раздачи денег доверенным лицам. «Глупее всего в этой истории то, что я не видала ни одного живого человека в Берлине, кроме официального визита у Меринга». На Франца Меринга, старого социалиста, в Москве делали ставку как на будущего кормчего германской революции.
Радек продолжал неистовствовать: «…передай Иоффе, что от его энергии зависит, не будем ли мы принуждены арестами немецких чинов внушать германскому правительству уважение к дипломатическим паспортам советской республики». И далее типичная ремарка: Если Иоффе не справится, «это сделает с большим успехом Феликс Дзержинский»[266], возглавлявший грозную ВЧК.
Дипломатический скандал с четой Радеков на этом не закончился. На границе Роза была задержана еще раз и подвергнута унизительному обыску. Здесь уже пришлось подключиться Чичерину, который направил генеральному консулу в Москве Гаушильду (он исполнял обязанности отсутствующего посла) ноту протеста: «Попытка произвести ее арест является актом полицейского произвола, недопустимого по отношению к представителю центрального учреждения государства, с которым Германия находится в состоянии мира»[267].
Так неудачно завершилась миссия одного из первых агентов мировой революции — впоследствии именно женщины, либо с дипломатическим, либо с подложным паспортом, станут главными курьерами Коминтерна. Выполняя его тайные поручения, они будут рисковать не только своей свободой, но и жизнью. Многие из них, как и Роза Радек, являлись супругами влиятельных мужей — достаточно назвать Берту Циммерман, Мишку Славуцкую или Айно Куусинен. Большинство из них — кадровых сотрудниц Отдела международной связи (ОМС) ИККИ — будет арестовано по надуманным обвинениям в шпионаже и отправлено в ГУЛАГ в 1937 году. Многие, как и Роза, не переживут нечеловеческих условий заключения. Немногие выжившие оставят мемуары, которые станут лишним подтверждением того, какую цену им пришлось заплатить за юношеский максимализм и слепое доверие авторитету «русских товарищей»[268].

Феликс Эдмундович Дзержинский
1918
[РГАСПИ. Ф. 413. Оп. 1. Д. 36. Л. 1]
2.5. Курс на германскую революцию
С началом осени 1918 года множилось число событий, свидетельствовавших о нараставшем перевесе сил Антанты в Первой мировой войне. Просьба Австро-Венгрии о перемирии (14 сентября), выход Болгарии из коалиции Центральных держав и решение Ставки германского Главнокомандования о поисках мира не оставляли сомнений в том, кто выйдет из войны победителем, а кто — проигравшим.
В ее последние недели радикально изменился тон посланий Радека своим зарубежным корреспондентам из числа «сочувствующих». Он настраивал их на неизбежность гражданской войны, которая разгорится во всей Европе. И здесь для большевистской России уготована более значительная участь, нежели роль примера или искры. «Не подлежит ни малейшему сомнению, что в скором будущем классовая солидарность буржуазных правительств может взять верх над всеми распрями, что теперь первый раз в истории этой войны приближается момент, где Вильсоновский союз народов может осуществиться, как союз против народа… Вы помните, как в октябре прошлого года Троцкий считал это во всяком случае невозможным. Я же — нереальным.
Теперь эта возможность налицо, ибо, во-первых, Германия не представляет для них уже опасности, а во-вторых, германская революция, которая идет, представляет для них всех самую главную опасность. Будем теперь играть партию в мировом масштабе. То, чем мы были для России, надо расширить и, убежден, что не минует и полгода, как наши люди будут во главе движения во всех столицах Европы. Пока европейское движение не будет иметь собственного опыта, мы ему дадим офицеров. Вы не имеете понятия, какое настроение здесь в народных массах. Масса чувствует своим инстинктом революцию, как коршун падаль»[269].


«Масса чувствует своим инстинктом революцию, как коршун падаль»
Письмо К. Радека английскому журналисту А. Рэнсому
Октябрь 1918
[РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 157. Д. 3. Л. 3–5]
Подобная эйфория соответствовала общему настрою лидеров большевистской партии. Они не скрывали своих надежд на то, что первая годовщина их прихода к власти обернется началом всемирной революции пролетариата. Германия с ее образцовым империализмом и мощным рабочим движением считалась ее главным полигоном. Интерес к событиям в этой стране подпитывали и геополитические соображения. Окончание Первой мировой войны открывало для новой России возможность не только возвращения к имперским границам, но и выхода из внешнеполитической изоляции. Брестский мир, который в общественном мнении выглядел национальным позором, в новых условиях можно было представить незначительным эпизодом, временным отступлением для подготовки решающего штурма. Так будет позже подаваться партийной пропагандой и переход РКП(б) от политики «военного коммунизма» к нэпу.
Именно в таком ключе была выдержана статья Радека, появившаяся 1 октября 1918 года в газете «Известия». Озаглавленная «Тень России», она подразумевала, что российская революция накрыла своей тенью Германскую империю и Гогенцоллернам вскоре придется повторить судьбу династии Романовых. Автор запустил пробный шар, обращенный к Германии, предложив ей сделать «умный шаг» и облегчить положение России, чтобы та оказалась в состоянии «парализовать усилия англо-французского капитала создать восточный фронт против Германии»[270]. Перевод этой неуклюжей формулировки на обычный язык означал, что в обмен на пересмотр Брестского мира Россия могла бы взять на себя обязательство не допускать высадки войск Антанты на Украине и в Прибалтике.
Первый день октября стал звездным часом в судьбе нашего героя. В этот день Радек сообщил полпреду Иоффе по Юзу (т. е. фактически открытым текстом, запись переговоров сохранилась в архиве германского МИД[271]) о выстраивании новой внешнеполитической линии (Радек добавил, что она уже получила одобрение в комиссариате Троцкого). Собеседники согласились с тем, что время радикальных требований к немцам еще не пришло, очевидно, подразумевая под этим разрыв Брестского мира. Однако дни империи сочтены, а значит, для Советской России закончилась эпоха мирной передышки.
Если к власти в Германии придет СДПГ, признал Радек, для большевиков настанут тяжелые времена: «Шейдемановцы попытаются взять антирусский курс. Соглашение с союзниками за счет России представляется этим остолопам единственно возможным отступлением, несмотря на всю его абсурдность»[272]. В случае же противостояния в ходе революции умеренных социал-демократов и кайзеровского генералитета никакого повторения российской керенщины не будет, ибо «Людендорф в два счета выкинет Шейдемана».
Однако главным сюжетом, волновавшим собеседников, была судьба Советской России. В новой исторической обстановке страна могла выстоять во враждебном окружении только в том случае, если не будет допускать авантюр по типу брестской, к которым призывали неназванные Радеком «люди, потерявшие голову». Несмотря на всю скупость и неразборчивость телеграфной ленты, усугубленную плохим знанием русского языка нашим героем, она передавала типичный для него стиль выражения своих мыслей: «Мы поведем спокойную линию, не выдвигая общих вопросов. По моему мнению, если дядя помрет [т. е. Германия потерпит поражение. — А. В.], то оставит наследство, если же курилка будет жив, смешно от него требовать, чтобы он платил долги. Именно теперь надо иметь терпение, внешний радикализм требований был бы признаком неверия в постоянство развития в желаемом направлении»[273].
В ходе переговоров Иоффе не покидал привычную для себя колею исторического пессимизма: «Следует иметь в виду, что в наилучшем случае здесь Февраль, а не Октябрь, нужно помнить, что геноссен [товарищи, т. е. лидеры СДПГ. — А. В.] еще все подгадят»[274]. Собеседники сошлись в том, что нарком Чичерин не является оптимальной фигурой при реализации нового внешнеполитического курса, который отныне подразумевал не лавирование между двумя воюющими коалициями, а равноудаленность от победителей и побежденных.
Не подозревая о складывающемся против него альянсе, той же ночью Чичерин просил Иоффе обратить внимание на статью «Тень России», которая «буквально воспроизводит наши взгляды в настоящий момент». Даже помня о том, с какой жестокостью русскому народу был навязан Брестский мир, Россия в новой исторической обстановке не пойдет на союз с англо-американскими противниками немцев, чтобы в последний момент присоединиться к победителям и «воссоздать Восточный фронт против Германии». Очевидно, нарком иностранных дел отдавал себе отчет в том, что вопрос уже предрешен, причем на самой вершине большевистского Олимпа. Буквально в момент передачи телеграммы Чичерина Радек обещал полпреду, что на следующий день (переговоры по Юзу шли в ночь на 2 октября) после обеда он встретится с Лениным и постарается заручиться его поддержкой.
Ключевой фигурой в многовекторном столкновении политических интересов и личных амбиций, пришедшемся на первый октябрьский день, оставался лидер Советской России. С достаточным основанием можно предположить, что именно статья «Тень России» подтолкнула Ленина, находившегося на лечении и отдыхе в Горках, к переходу от размышлений к практическим действиям. То, что его соратникам виделось тактическим поворотом, лидер РКП(б) определил как новую стратегическую линию. Закончилось время маневров и отступлений, пришло время громких слов и решительных действий.
Телефонный разговор, во время которого были согласованы детали новой внешнеполитической линии, состоялся в тот же день, 1 октября[275]. Ленину не составило большого труда переубедить своего собеседника, что час пробил и кокетничать с немцами больше не надо. Сыграв на самолюбии Радека, он сделал его не только своим союзником, но и пропагандистским рупором. Стремительное возвышение полезного соратника вопреки всем канонам партийной иерархии характеризовало ленинский стиль руководства, который неизменно приносил ему успех в борьбе за власть и влияние.
Именно Радек сделал 3 октября 1918 года главный доклад на заседании ВЦИК и общественных организаций Москвы, которое завершилось принятием радикальной резолюции о безоговорочной поддержке грядущей германской революции. Формально он оставался сотрудником Наркоминдела, но отныне был выдвинут волей вождя в первый ряд борцов за «мировой большевизм». Все существенное уже было озвучено в ленинском письме, зачитанном на заседании, так что дискутировать Радеку было не с кем, и на его долю осталась чистая патетика.
Присутствовавший на заседании ВЦИК Альфонс Паке, который после этого ужинал с Радеком в ресторане «Метрополь», отметил в своем дневнике, что его собеседник был крайне возбужден и вполне серьезно рассуждал о совместном выступлении России и рабочей Германии против Антанты[276]. Сам Паке в конце октября успел съездить в Берлин, откуда, пользуясь аппаратом Юза, находящемся в советском полпредстве, дал Радеку крайне важную информацию о реальном состоянии дел на Западном фронте. Война проиграна, и, следовательно, армии Антанты рано или поздно окажутся в Северном Причерноморье. «Я думаю, что союзники пойдут не через Дарданеллы, а через Румынию, и что одновременно германскую армию на Украине будут брать, с одной стороны, союзники, а с другой — армия Краснова и Деникина».
Радек не замедлил с ответом: «Если Ваше правительство не будет иметь столько ума, чтобы уйти до этого времени» с территории бывшей Российской империи, германскую армию ждет не почетный мир, а капитуляция. И в заключение разговора с Паке опять прозвучала фирменная радековская острота: «Привезите с собой какого-нибудь не совсем глупого посла»[277]. С этим в условиях революционной турбулентности долгое время не складывалось. Германский посол, представляющий уже не империю Гогенцоллернов, а Веймарскую демократическую республику, появится в Москве только в середине 1921 года.
Выступая после заседания ВЦИК на рабочих митингах, которые прошли на крупнейших заводах и фабриках Москвы, Радек повторял полюбившееся ему выражение: «Мы теперь не Московия и не Совдепия, а авангард мировой революции»[278]. Искренность его восторга не вызывает сомнений. Несколько дней спустя он писал англичанину Рэнсому: «Какое впечатление произвел на Вас последний шаг нашего правительства от 3 октября? Было что-то прекрасное видеть эластичность Владимира Ильича, который одним прыжком сумел от Брестской политики перейти к новой политике, которая, хотя внешне в данный момент ничего не меняет, означает начало нашего наступления в социальном смысле, а если этого потребуют обстоятельства, то и в другом смысле.
Вы будете смеяться, если я Вам скажу, что я удерживал [его] от этого шага, пока крушение германского империализма не уступит место движению масс. Я боюсь, что своим падением германский империализм может еще вышибить нам несколько зубов. Ильич заявлял, что теперь надо рисковать, ибо теперь германский империализм на этом провалился. Он кажется уже и в этом оказался прав»[279].
Радек оказался прилежным учеником своего вождя и кумира. Он избавился от псевдонима Viator и надежд на то, что сможет легально приехать в столицу Германской империи, перейдя к публицистической битве с открытым забралом и откровенно запугивая своих вчерашних партнеров по переговорам: «Если потребует история, молодые полки нашей Красной армии будут сражаться против капитала за германскую революцию и на Рейне»[280].
Новое правительство Германии, образованное за месяц до начала Ноябрьской революции, «стоит у той черты, у которой кончается свободное решение, кончается выбор, и где надо принять все, чего потребует Антанта»[281]. Фактически речь шла об условиях капитуляции, хотя в октябре 1918 года с точки зрения Радека весьма реальной представлялась и перспектива военного переворота с устранением «гражданских» от рычагов власти, чтобы обеспечить зарвавшимся генералам свободу рук в тылу и на фронте.
Впрочем, речь шла не только о битве до последнего солдата. Радек первым предсказал ход событий, который предопределит тактику немецких дипломатов на мирных переговорах в Париже. «Наше предсказание о том, что германские генералы предложат союзникам свои услуги в качестве опытных жандармов, оправдалось скорее, чем можно было ожидать»[282]. Дойдя до Марны и Дона, разрушив континентальную Европу, немецкие власти пытаются выставить себя защитниками европейской культуры от ужасов большевизма. Им подыгрывают социал-демократы во главе с Шейдеманом (вскоре он станет первым канцлером Веймарской республики), которые без тени сожаления отреклись от марксизма и пошли в услужение классовому врагу. До тех пор, пока в Германии нет большевистской партии, рассчитывать на поддержку этой страны невозможно. Оставаясь в гордом одиночестве, Советская Россия в этот момент может оказаться перед задачей в одиночку «выступить в бой со всемирным капиталом, бой, который двинет нам на помощь рабочих всех стран»[283].

Двуязычие советской пропаганды указывало на то, что вслед за Россией, устремившейся в светлое будущее, пролетарская революция разразится в Германии
Плакат
1921
[Из открытых источников]
С каждым днем тональность публицистических выступлений нашего героя нарастала. «Мировой октябрь приближается, и по мере того, как он приближается, мы будем расти в силе, и если еще союзникам удастся устроить какой-то десант на юге России, то они позорно провалятся с этой затеей»[284]. Пролетариат Европы, которого мы зовем на помощь, уже виден на горизонте, вместе с ним мы сметем все твердыни мирового империализма. Все это уже напоминало не сказку о Мальчише-Кибальчише, которому нужно было «только день простоять, да ночь продержаться», а ультиматум, выдвинутый историческими победителями обреченным проигравшим.
Ответ Берлина на подобные пророчества не заставил себя ждать. В последние дни существования Германской империи ее политическую элиту вопрос о недопущении в стране революции занимал никак не меньше, чем мысли о последствиях военного поражения. Если раньше полицейские власти Берлина сквозь пальцы смотрели на то, что в представительстве РСФСР нашли прибежище левые социалисты, печатавшие там свои агитационные материалы, то теперь здание на бульваре Унтер-ден-Линден воспринималось едва ли не как генеральный штаб грядущего государственного переворота. 6 ноября 1918 года после грубо сработанной провокации (накануне из «случайно разбившегося» дипломатического багажа на берлинском вокзале рассыпались революционные листовки) советское полпредство было выслано из Германии.
Согласно нормам дипломатии, такая же судьба должны была постигнуть и московское представительство Германской империи, работавшее в статусе консульства (персонал посольства покинул столицу Советской России в начале августа, перебравшись на территорию, оккупированную германской армией). Продолжая разговор о радековских адресах 1918 года, вернемся в Денежный переулок, где находилось консульство во главе с Гаушильдом.
Как только в Москву пришли сообщения о свержении кайзера Вильгельма Второго, здание посольства и персонал консульства были захвачены распропагандированными немецкими военнопленными. После хаотического голосования, закончившегося единогласно принятой резолюцией, они провозгласили себя Германским Советом рабочих и солдатских депутатов[285]. Этому органу отводилась роль то ли посольства будущей Советской Германии в России, то ли ее будущего правительства. Немецкие чиновники были посажены под домашний арест. Они были уверены, что за произошедшим «дворцовым переворотом» (А. Паке) стоял все тот же Карл Радек.
Захват здания посольства стал одной из причин того, что новые власти в Берлине отказались вернуть в страну дипломатическое представительство Советской России. В последующие дни из германской столицы в Москву приходили противоречивые сигналы. В то время как Берлинский Совет рабочих и солдат посылал приветы новой России и высказывался за скорейшее восстановление «братских отношений», временное правительство — по три представителя от рабочих партий СДПГ и НСДПГ, назвавшее себя Советом народных уполномоченных (СНУ), по согласованию с чиновниками дипломатического ведомства всячески затягивало решение данного вопроса.
Иоффе и его люди доехали только до демаркационной линии — военные отказались пропускать их на российскую территорию, пока для обмена из Москвы не прибудет персонал германского консульства. 11 ноября полпред жаловался по прямому проводу Радеку, что их охраняют как преступников вооруженные солдаты, утверждая, что это защита от возможного нападения белогвардейских отрядов на поезд, стоявший на запасных путях.
Радек тут же нашелся: если вас охраняют от белых, значит, следуя простой логике, немецкие солдаты — уже красногвардейцы! Чтобы поднять настроение обитателей поезда, которые почти неделю сидели в нетопленых вагонах, он сообщил, что военнопленные, захватившие здание в Денежном переулке, реквизировали в пользу советской власти запасы прекрасного рюдерсхаймского вина, которое будет выпито, как только Иоффе и его соратники окажутся в Москве[286].
Впервые получив прямой провод с Берлином после свержения монархии, Чичерин провел обстоятельный разговор с левым социалистом Оскаром Коном, который работал адвокатом в советском полпредстве. Получив информацию о формировании СНУ и уходе «спартаковцев» в оппозицию, нарком попросил Кона добиться приезда в Берлин «наших друзей», назвав имена Зиновьева и Радека, а также сообщил, что русские рабочие собрали для своих немецких товарищей два эшелона с зерном, которые готовы к отправке[287]. Очевидно, что и то, и другое должно было способствовать повороту германской революции на рельсы большевизма.
Архивные документы свидетельствуют о том, что в дальнейшем в Наркоминделе сложилось своеобразное разделение труда: Чичерин адресовал свои послания в МИД и СНУ Германии, а Радек — отдельным руководителям и членам Исполкома Берлинского Совета, которые в мае — октябре 1918 года были вхожи в советское полпредство и рассматривались как потенциальные лидеры будущей германской революции. Члены Правления НСДПГ Гуго Гаазе, Вильгельм Дитман и Георг Ледебур стали адресатами его грозного послания, датированного серединой ноября. Разрыв связей между двумя странами имел и свое физическое воплощение — были оборваны провода телеграфной связи, и переговоры с Берлином, как и в первой половине 1918 года, пришлось вести по радио.
В радиограмме Радек подчеркивал «общность двух социалистических республик» и взывал своих немецких адресатов к солидарности с русскими рабочими и крестьянами. Ее доказательством должны были стать скорейшее возвращение в Берлин советских дипломатов, уход немецких войск с российской территории и немедленное освобождение всех военнопленных. В случае отказа принять данные условия выдвигалась угроза «самостоятельно обратиться к немецким рабочим и солдатам, чтобы защитить идентичные интересы российской и германской революции от саботирующих элементов»[288].
Подобные выражения, мало подходившие для дипломатической переписки, вытекали из упоения неограниченной властью, которое вместе с Радеком демонстрировали все без исключения лидеры РКП(б). Берлинскими членами СНУ руководили в первые недели после окончания мировой войны совершенно иные соображения. Любой намек на союзнические отношения с коммунистической Россией дал бы странам Антанты предлог к тому, чтобы вторгнуться в пределы Германии для «борьбы с красной чумой» — этот лозунг в конце 1918 года еще не потерял своей свежести.
Ситуацию усугубляло и то, что после окончания войны изменился статус сотен тысяч русских военнопленных, находившихся в Германии. Они самовольно покидали лагеря, направляясь на Восток, и усиливали тот хаос, который воцарился в стране в первые дни и недели революции. В упомянутой выше радиограмме Радека говорилось о том, что советское правительство готово прислать необходимое число «наших людей» для того, чтобы упорядочить возвращение солдат на родину, и в то же время содержалось предупреждение, что в ответ на любую попытку навести порядок в лагерях силой оружия в России последуют жесткие контрмеры[289].
Никакой реакции Берлина на эти предложения не последовало. Там столь же хладнокровно не заметили и денонсацию Брестского мира, которая в одностороннем порядке была произведена на заседании ВЦИК 13 ноября 1918 года. Главный доклад вновь делал Карл Радек. Имея на тот момент лишь крохи информации о событиях в германской столице, он все же сделал вывод, который диссонировал с пафосным настроем советской прессы: «В Берлинском совете рабочих и солдатских депутатов преобладает настроение совсем не большевистское»[290].
Показателем этого стало решение отказаться от каких-либо контактов с правительством «максималистов» (так в Германии называли большевиков), которое было принято на заседании СНУ 18 ноября 1918 года. Решающим аргументом в предшествующей дискуссии было указание на то, что «Антанта готова предложить Германии при нынешнем правительстве подходящие условия мира, а также снабдить ее продовольствием. Но все это до тех пор, пока в Германии нет большевизма. Поэтому необходимо обороняться от русской пропаганды и в то же время сохранять мирные отношения с советским правительством»[291]. За вычурными формулировками телеграммы, направленной в Москву за подписью самого Карла Каутского, скрывался отказ от восстановления дипломатических отношений между двумя странами.
Часть обширной переписки руководителей советской внешней политики с новыми властями Берлина в начале 1919 года опубликовал сам Иоффе[292]. Она должна была разоблачать предательское поведение революционного правительства, одному из членов которого, Гуго Гаазе, полпред выдвинул упрек в том, что тот регулярно получал от него немалые суммы на закупку оружия для формирования боевых рабочих отрядов. Обвинения были с негодованием отвергнуты, но стали еще одним аргументом для тех, кто считал советских дипломатов исчадием ада, готовившимся насадить в благословенной Германии «азиатский хаос». Подобные настроения доминировали в общественном мнении этой страны и на закате империи, и в эпоху первой республики, но особенно буйно расцвели они в годы нацистской диктатуры[293].

Фридрих Эберт
1920-е
[Из открытых источников]
Такая ситуация вполне устраивала как членов СНУ, стремившихся не допустить в страну «красной заразы», так и представителей стран Антанты, к которым по условиям Компьенского перемирия переходили полномочия по урегулированию ситуации на бывшем Восточном фронте. Германский посланник в Гааге 13 ноября 1918 года сообщал в МИД о доверительном разговоре в американском посольстве: обещанные продовольственная помощь и смягчение условий в ходе мирных переговоров будут предоставлены только при сохранении нынешнего состава СНУ, который возглавил председатель СДПГ Фридрих Эберт, не отличавшийся симпатиями к левым радикалам.
«В случае, если кабинет Эберта уступит давлению большевизма, то все обещания Антанты будут отозваны. Ей придется отказаться от перемирия и продолжить наступление. Возвращение Иоффе в Берлин также станет предлогом к подобным шагам»[294].
Советское правительство, напротив, искало любые лазейки для того, чтобы наладить контакт с немецкими революционерами радикального толка. Рассылая десятки директив и воззваний в лагеря военнопленных, совет немецких рабочих и солдат в Москве рассматривал себя как потенциальный штаб грядущей пролетарской революции, готовый в подходящий момент десантироваться в Берлин. Не случайно именно его члены Вернер Раков и Эрнст Рейтер, а также примкнувший к ним Радек оказались единственными эмиссарами Москвы, сумевшими попасть в Германию до созыва Учредительного съезда компартии этой страны.
2.6. В Берлин по справке — учреждение КПГ
После того, как в ноябре 1918 года в Вене и Берлине были свергнуты монархии и на знаменах революционеров появился лозунг «Вся власть Советам!», лидерам большевистского режима стало казаться, что сбываются их самые смелые мечты, что в послевоенном мире не может быть ничего, кроме всемирной революции пролетариата. Оказавшиеся у власти социалисты представлялись досадной, но легко преодолимой помехой.
Новое правительство Эберта, утверждал Радек, прикрываясь Советами, будет послушно выполнять волю германской буржуазии. Однако, как и русских меньшевиков, его сметет волна народного гнева. В оценках германской ситуации все более доминировал русский акцент: «Первый шаг нового правительства по необходимости будет состоять в том, что оно принуждено будет нажать на кулаков для получения хлеба. Это вызовет немедленно гражданскую войну, которая похерит все мечты о так называемой демократии»[295].
Утверждение последней ассоциировалось ни с чем иным, как с классовым заказом тузов финансового капитала, марионеткой в руках которых оказывался даже президент Вильсон[296]. Чтобы понравиться последнему, немецкие оппортунисты противодействовали возвращению в Берлин советского полпредства во главе с Иоффе[297]. Балансируя над пропастью в собственной стране, большевики щеголяли друг перед другом буйством политической фантазии мирового масштаба. Когда Паке вместе с персоналом консульства уезжал на родину из Москвы, Радек объявил ему, что они скоро увидятся, так как Берлин неизбежно станет центром пролетарской Европы, а сам он доберется туда на подводной лодке[298].


Мандат Радека как представителя Советской России на Съезде Советов рабочих и солдатских депутатов Германии
6 декабря 1918
[РГАСПИ. Ф. 326. Оп. 2. Д. 21. Л. 1–2]
Однако до использования подводной лодки дела не дошло. Правительство Германии больше всего боялось «большевистской заразы» и делало все возможное для того, чтобы отгородиться от Советской России непроницаемым барьером. Неприкрытое возмущение в Москве вызвал отказ немецкой стороны принять несколько вагонов зерна, что было предусмотрено резолюцией ВЦИК от 3 октября 1918 года: «Зная, что в России голод, мы просим обратить хлеб, который вы хотите пожертвовать для германской революции, в пользу голодающих в России». Так и не получив официального приглашения на Всегерманский съезд Советов, который должен был открыться в середине декабря, представительная советская делегация, в которую входил и Радек, отправилась в Берлин на свой страх и риск.
Накануне отъезда делегацию принял Ленин, снабдив ее подробными инструкциями. Оставив для отдельного разговора Радека, он задал ему вопрос, подразумевавший опасения вождя, что германская революция будет раздавлена иностранным вторжением: «Союзники перебросят цветные войска. Как вы будете агитировать среди них?» Радек быстро нашелся, что ответить, заявив, что среди неграмотных выходцев из колоний придется распространять листовки с картинками[299].
Надежды на солидарность «пролетариев в солдатских шинелях» оказались тщетными — представители Советов в частях, расположенных на демаркационной линии, выполнили указания из Берлина не пропускать на территорию рейха большевистских агитаторов. После телефонного разговора с Лениным русские члены делегации повернули обратно[300]. Радек, Рейтер и Раков в образе австрийских военнопленных, снабженные фальшивыми документами (Радек впоследствии гордо рассказывал, что пересек границу, предъявив только справку о дезинсекции), отправились дальше. 19 декабря 1918 года они добрались до германской столицы, революционный настрой которой напрочь вытеснил у немецкого обывателя предчувствие рождественского торжества. Уже на следующий день Радек встретился в редакции газеты «Роте Фане» с лидерами Союза Спартака — группы радикальных социалистов, все еще входивших в НСДПГ. Во главе их стояли Карл Либкнехт и Роза Люксембург.
Его ждал холодный прием. Пауль Леви, близкий соратник Люксембург в последние годы ее жизни, вспоминал, что при виде посланца из Москвы Роза испытала «одно-единственное чувство — отвращение»[301]. Спартаковцы видели в известном своими интригами Радеке современного Агасфера, метавшегося до войны между немецкими и польскими социалистами. Не обращая на это никакого внимания, тот считал себя официальным представителем большевиков и сразу же стал настаивать на необходимости скорейшего образования левыми социалистами собственной партии. В ответ посыпались упреки в том, что большевики своим кровавым террором запятнали идеалы революционного марксизма. «Розе было больно, что главою ВЧК является Дзержинский»[302].
На рождество в Берлин съехались представители различных леворадикальных групп, наиболее влиятельными среди которых были гамбургские и бременские социалисты, а также берлинские сторонники Юлиана Борхардта, издававшего в годы войны журнал «Лихтштрален». Участники встречи заслушали доклад Радека о русской революции и диктатуре большевиков. Естественно, больше всего их волновал вопрос о достижении единой позиции по отношению к выборам в Национальное собрание, которому предстояло выработать конституцию Германской республики.
Через несколько дней, 29 декабря 1918 года в Берлине состоялось совещание спартаковцев, обсудившее перспективу создания самостоятельной политической партии и стратегии дальнейшей борьбы. И в данном случае итог голосования по вопросу об участии в парламентских выборах продемонстрировал внутренний раскол: 23 делегата высказались «за» и 23 — «против»[303]. Под давлением Радека и новых активистов, прибывших из провинции, совещание на следующий день превратилось в Учредительный съезд, на котором 1 января 1919 года была провозглашена Коммунистическая партия Германии.
Центральными событиями съезда стали выступления Розы Люксембург и Карла Радека. Последний фактически открыл его работу 30 декабря, выступив с пространным и эмоциональным приветственным словом от партии большевиков. Радек отказался от трансляции готовых рецептов из Москвы. Нет смысла пытаться копировать русскую революцию, утверждал он, из-за различий в социальной и политической структуре отдельных стран их рабочий класс будет искать собственные пути борьбы за власть. Затем оратор вернулся в лоно привычной патетики: «…опыт, приобретенный нами в течение того года, когда власть находилась в руках рабочего класса, имеет величайшее историческое и практическое значение для пролетариев Германии и всех остальных стран… Русская революция, первый год пролетарской диктатуры является великим испытанием основного правила: вопроса о том, возможна ли диктатура рабочего класса вообще. …Ныне, впервые за всю историю человечества, класс собственников должен быть совершенно упразднен. А это не может быть проведено с помощью парламентских переговоров и постановлений. Русская революция явно свидетельствует об этом»[304].
Ораторское мастерство Радека работало на закрепление идеализированного образа Российской революции при одновременном приведении его в соответствие с канонами, утвердившимися в идеологии и пропаганде РКП(б). Он с жаром рассказывал о том, с какой надеждой смотрели в Советской России на Запад: «…без социалистической революции в Германии революция русских рабочих останется в одиночестве и не сможет собрать достаточно сил для того, чтобы выбраться из руин, оставленных капитализмом, и начать строительство нового общества»[305]. Его речь заканчивалась призывом к развязыванию всемирной гражданской войны против буржуазии и выражением уверенности в том, что «русские рабочие будут сражаться так же храбро на Рейне, как их германские товарищи — на Урале».
Лидеры Союза Спартака, казалось, были заражены эмоциональным подъемом посланца Москвы — они даже не высказали сомнений в целесообразности раскола НСДПГ и образования собственной осколочной партии. Находясь в тюрьме, сказал Либкнехт, я думал, что пролетарская революция в России будет тут же задушена, но спустя год после своего начала она стоит на ногах крепче, чем когда бы то ни было раньше. Немецкие пролетарии покрыли себя позором, участвуя в оккупации и ограблении России германским империализмом. Теперь у них есть шанс смыть этот позор, добившись передачи всей полноты власти Советам рабочих и солдатских депутатов. Тогда «пробьет час мировой революции, настоящей мировой революции, которая навсегда покончит с классовым господством»[306].
Получив слово на второй день работы съезда, Роза Люксембург ни словом не упомянула очевидные успехи немецкого социал-демократического движения до 1914 года, подчеркнув, что ныне «мы ликвидируем результаты последних семидесяти лет развития». Досталось и дню сегодняшнему: «То, что мы пережили 9 ноября, было более чем на три четверти не победой нового принципа, а крахом существующего империализма»[307]. Единственным позитивным моментом первого этапа революции было освоение ею «азбуки», заимствованной у русских, — речь шла о создании рабочих и солдатских Советов. Однако, сойдя с трибуны, Роза не скрывала своих сомнений в правильности выбора, сделанного большинством делегатов съезда. Люксембург и Либкнехт сняли свое предложение назвать создаваемую партию социалистической, а не коммунистической, однако настаивали на «продолжении решительно антикапиталистической, но все-таки прежде всего просвещающей политики»[308].
Переход левых социалистов на рельсы «мирового большевизма» обернулся очередным расколом в их лагере. Большинство лидеров и активистов НСДПГ сохранило верность демократическим завоеваниям германской революции, отказываясь ставить на карту ее судьбу ради того, чтобы подтолкнуть вперед революцию мировую. Один из них, Георг Ледебур, заявил на заседании Исполкома Берлинского Совета рабочих и солдатских депутатов 2 января 1919 года: «Я решительно возражаю против утверждений, звучавших на конференции спартаковцев, что мы должны установить братские отношения с нашими русскими товарищами для того, чтобы начать новую битву против Антанты на Рейне»[309].
В своих воспоминаниях о германской революции Радек отметил, какую роль в ходе дебатов на съезде сыграла судьба российского Учредительного собрания, разгон которого не встретил ни малейшего сопротивления в обществе. В противовес линии «спартаковцев» с довоенным стажем радикально настроенные делегаты требовали говорить с классовым врагом исключительно «языком пулеметов». «Съездовской молодежи и море по колено. Она считает, что Карл и Роза тормозят, что победа очень близка… Я не имел еще впечатления, что здесь уже передо мною партия»[310].
Не имея достоверной информации о реальном ходе и решениях Учредительного съезда КПГ, Ленин поспешил объявить миссию Карла Радека выполненной на все сто процентов: «Когда Союз Спартака назвал себя коммунистической партией Германии, — тогда основание действительно пролетарского, действительно революционного III Интернационала, Коммунистического Интернационала стало фактом»[311]. Словесный радикализм большинства участников съезда, не имевших, в отличие от большевиков, многолетнего опыта подпольной работы, стал одним из факторов, которые привели к поражению попытки поднять рабочее восстание в Берлине в первые январские дни 1919 го-да — восстания, вошедшего в историю как «спартаковское».
2.7. «Спартаковский путч»
4 января 1919 года членами СНУ был отправлен в отставку левый социалист Эмиль Эйхгорн, занимавший пост полицай-президента Берлина. Его обвинили в подрыве авторитета новой власти и потворстве радикальным элементам, получившим при его посредстве в свои руки оружие. В ответ на отставку, воспринятую как политическая провокация со стороны правых социал-демократов, их оппоненты призвали к демонстрации протеста. Вечером следующего дня на Аллее Победы в самом центре Берлина собралось около 100 тысяч человек. Над рядами демонстрантов реяли наскоро написанные лозунги, требовавшие немедленной отставки Эберта и Шейдемана, раздавались требования захватить оружие и сформировать отряды Красной гвардии. Начался стихийный захват редакций газет и типографий, где они печатались.
Утром понедельника 6 января мальчишки раздавали на улицах Берлина воззвание о переходе власти в руки Революционного комитета, которое подписали Георг Ледебур от НСДПГ, Карл Либкнехт от КПГ и Пауль Шольце от организации «революционных старост», которые избирались рабочими крупнейших фабрик и заводов[312]. Однако за громкими словами об отстранении от власти предателей революции не последовали дела. У рабочих не было ни оружия, ни реального руководящего центра. Восстание не имело четких целей и в конечном счете «свелось к бесцельному хождению широких рабочих масс по улицам Берлина»[313]. Все происходившее выглядело пассивным актом отчаяния, а не решительной атакой на вражеские позиции. Большинство из вышедших на улицы активистов считали демонстрации и стачки крайним средством давления на правительство социал-демократов, но были против его отставки.

Баррикады из рулонов газетной бумаги в центре Берлина
Январь 1919
[Из открытых источников]
Лидеры, призвавшие рабочих к свержению правительства Эберта, «просто перестали выходить к демонстрантам на Аллею Победы, и масса блуждала бесцельно, пока не разошлась», — сообщал в Москву Радек, находившийся в гуще событий[314]. В своих воспоминаниях о тех днях он писал: «В Берлине существовала группа русских коммунистов военнопленных. Я организовал из них разведку. Послал их на несколько узловых пунктов железной дороги около Берлина и в его окрестности. От них я получил сведения, что около Далема [район на юго-западе Берлина. — А. В.] помещается какой-то военный штаб, что туда ездят и оттуда возвращаются самокатчики и автомобили. Было ясно, что правительство организует военную силу против Берлина. По требованию ЦК я не покидал своей квартиры, ибо Либкнехт утверждал, что мой арест может очень затруднить положение: скажут, что восстание организовано русскими»[315].
9 января он написал записку Карлу Либкнехту, в которой изложил свое видение сути событий: в силу своей политической неопытности левые социалисты и попытались превратить движение протеста в захват власти, обреченный на поражение. Посланец Москвы требовал прекратить борьбу любой ценой, даже ценой сдачи оружия, т. е. фактической капитуляции рабочих. «Всякие соображения о революционном самолюбии должны померкнуть перед действительным соотношением сил»[316]. Аналогичное требование с более подробной мотивацией было отправлено им Розе Люксембург.
Радек настаивал на том, что призывать к созданию рабочего правительства без опоры на массовые организации рабочего класса (подразумевались Советы, руководимые коммунистами) — бессмысленно. Даже если восставшие возьмут в свои руки контроль над столицей, через пару дней «провинция их изолирует и задушит». В случае если силы реакции одержат верх, развитие революции будет остановлено на несколько месяцев, а то и лет. «Единственная сила, которая может остановить несчастье — это вы, Коммунистическая партия»[317].
Роза отвергла аргументы Радека, который напрямую ссылался на опыт большевиков в июле 1917 года, когда те отступили перед превосходящими силами противника. Она соглашалась с тем, что «если не восстанет провинция, то взятие власти в Берлине есть бессмыслица»[318], но опасалась, что сигнал к отступлению ляжет на только что созданную партию несмываемым пятном[319]. Когда руководство КПГ обсуждало вопрос об этом, в Берлин уже входили воинские части, верные правительству СНУ. Надежды на то, что вступление войск в революционную столицу вызовет массовые протесты рабочих, не оправдались.

В германском общественном мнении был весьма популярен образ русских революционеров как бандитов и поджигателей
Предвыборный плакат Баварской народной партии
1920
[Из открытых источников]
Ничуть не оправдывая командования армейских частей и добровольческих соединений (фрайкоров), старавшихся превзойти друг друга в жестокости по отношению к восставшим рабочим в Берлине, Бремене, Мюнхене и других городах Германии, следует иметь в виду атмосферу Апокалипсиса, которая охватила значительную часть населения страны. От хваленого немецкого порядка остались одни лохмотья. Хотя прямого сообщения с Советской Россией после начала революционных событий у Германии не было, по Берлину ходили слухи о прибывших из Москвы эмиссарах с чемоданами денег, на которые спартаковцы организуют массовые демонстрации. «Буржуазная печать, разумеется, представляет дело так, как будто мы — она предполагает присутствие здесь большой массы русских большевиков — толкаем к вспышкам»[320], — информировал Радек Москву.
Январская попытка захвата власти путем массовых демонстраций и радикальных деклараций еще больше расколола революционный лагерь. Несмотря на ее кровавое подавление, радикальные элементы этого лагеря выдвинули лозунг «второй революции», утверждая, что правые социал-демократы во главе с Эбертом предали идеалы марксизма, пойдя на союз с военщиной и буржуазными партиями. В противовес их соглашательству следовало вести революцию вперед, переходя от политических к социальным преобразованиям.
В то же время многие из тех, кто считался искренним сторонником продолжения и углубления революции, назвали произошедшее путчем. «В Берлине была разыграна игра в заговор, играли смело и безрассудно, играли человеческими жизнями и революцией», — признавался один из лидеров «революционных старост» Эмиль Барт[321]. Лидеры КПГ колебались между политическим разумом и анархистским путчизмом. Противники последнего, Роза Люксембург и Карл Радек, не заняли решительной позиции в первые дни январских боев, очевидно считая, что победителей оправдает история. В основе их поведения лежало предсказание, сделанное Радеком еще в первые дни революции: «Правительство народных уполномоченных будет стрелять в народ, но пролитая кровь будет взывать к небу, поднимая миллионы на восстание против этого правительства»[322].
Эти расчеты оказались беспочвенными. 15 января пролилась кровь самих вождей КПГ — Роза Люксембург и Карл Либкнехт были убиты офицерами гвардейских частей, переброшенных с фронта в Берлин. Чистой воды спекуляцией является версия о том, что ответственность за это преступление лежит на Карле Радеке, который якобы испытывал давнюю зависть к лидерам только что созданной КПГ и косвенно выдал их властям[323]. Легенда о святых мучениках «второй революции», якобы затоптанной солдатскими сапогами, жива и по сей день, хотя имеет значение только для небольшой части немецкого общества, которая до сих пор солидарна с идеями крайне левых. Следует согласиться c немецким исследователем Ули Шелером, пришедшим к следующему выводу: «…представить себе, чтобы Ленин и Люксембург могли бы продуктивно сотрудничать в рамках одной партии или Интернационала, попросту невозможно»[324].
Об этом свидетельствовали отклики советской прессы на январские события в Берлине. При всей искренности траура, связанного с потерей одного из самых видных соратников за границей, волна некрологов и статей о Розе Люксембург, появившихся в первые недели и месяцы после ее гибели, сознательно замалчивала некоторые положения ее политической программы, которые никак не согласовывались с реалиями партийной диктатуры в России. Скорбя о ней, лидеры РКП(б) отдавали себе отчет в том, что теперь они избавлены от весьма опасного друга. Для них не было секретом негативное отношение Розы к ленинской концепции кадровой партии, к централизму и заорганизованности, они помнили о ее нежелании спешить с образованием КПГ и нового Интернационала. На погибших вождей можно было списать пассивность партии во время январских событий. Карл Радек писал об этом вполне определенно: «Убийство Розы и Карла, вызвавшее во всем государстве в широких рабочих массах колоссальное возбуждение, помогло перейти через берлинское поражение»[325]. Через несколько дней после убийства вождей КПГ на одной из явочных квартир был арестован и герой настоящего очерка.
2.8. Узник тюрьмы Моабит
Среди бесчисленных радековских анекдотов, украшающих любую из его биографий, есть и такой. На вопрос анкеты о том, что он делал до революции, Радек написал: «сидел и ждал». На вопрос о том, что он делал после революции, дал ответ: «дождался и сел». Хотя в подтексте этой шутки чувствуется оппозиционная составляющая биографии нашего героя, начавшаяся в середине 1920-х годов, его первая «посадка» после 1917 года случилась именно в Берлине.
Арест был следствием неумения немецких сотрудников Радека вести подпольную работу. «Снимал я две комнаты у вдовы военного врача… Я мог свободно весь день работать и откатывать до тысячи строчек статей, воззваний и брошюрок. И сидел бы я у нее, как у бога за печкой, если бы не болтовня не привыкших к конспирации товарищей машинисток», — писал он впоследствии[326]. Полиции без труда удалось выследить его связных, регулярно снабжавших посланца Москвы свежими новостями и газетами. Однако ни револьверов, ни бриллиантов, ни даже инструкций при нем не оказалось, что с явным сожалением были вынуждены констатировать прусские чиновники[327].
Судьбой Радека сразу же заинтересовались за пределами Германии. 23 февраля 1918 года английский генерал Хейкинг показал членам германской комиссии по перемирию требование своего правительства представить документы, конфискованные у Радека при аресте. В телеграмме подчеркивалось, что позитивный ответ станет показателем отношения немецкого правительства к большевизму. Ситуация грозила обернуться международным скандалом — для германских дипломатов было очевидным, что такое требование является покушением на суверенитет Германии.
Граф Брокдорф-Ранцау, ставший к тому времени министром иностранных дел, уклонился от выполнения просьбы. В его ответе говорилось о том, что «найденные документы скорее разочаровывают», и делалось предложение о тайном визите в Берлин представителей Антанты, которые смогут самостоятельно допросить арестованного. В марте английский и французский офицеры провели в Берлине согласованный с МИД неформальный допрос Радека, очевидно, чтобы оценить потенциал «красной угрозы» своим собственным странам[328].
В своих воспоминаниях о работе в Германии Радек не жалел красок для того, чтобы представить дело таким образом, будто он чудом избежал судьбы Розы Люксембург и Карла Либкнехта. Он утверждал, что его пытались избить до смерти в момент приема в тюрьму, позже во время одной из прогулок по тюремному двору в него стреляли из располагавшейся по соседству казармы, но выстрелы не достигли своей цели[329]. В то время как советские газеты возмущались тем, что арестованного содержат в одиночной камере закованным в цепи, Радек достаточно быстро добился смягчения тюремного режима. Ему стали приносить свежую прессу, разрешили передавать на волю письма и статьи, принимать гостей.
Вошедший в историю «салон Радека» в берлинской тюрьме Моабит, а затем на квартире барона Райбница, куда переселили важного заключенного, регулярно посещали не только коммунисты, но и представители германской промышленной и политической элиты[330]. В их числе был контр-адмирал Пауль фон Гинце, который в июле 1918 года стал предпоследним статс-секретарем иностранных дел Германской империи. Благодаря его активным переговорам с советским полпредом Иоффе был подписан советско-германский Добавочный договор, который ввел в правовое поле отношения между двумя странами. Если верить Радеку, Гинце «стоял за сделку с Советской Россией и заявил, что очень хотел бы видеть теперешние отношения внутри России собственными глазами». Гостя больше всего волновал вопрос о перспективах пролетарской революции на Западе: «придет ли она раньше, чем Антанта съест Германию?»[331]
Сам Радек свое вынужденное пребывание в Берлине использовал для расширения полезных контактов и разоблачения утверждений прессы о том, что германская компартия находится под полным контролем Москвы. «Духовная и материальная взаимопомощь не является решающим фактором влияния русского коммунизма на европейский», — писал он в сочинении, адресованном немецкой буржуазии. «Таковым является само существование Советской России, ее героическая борьба за жизнь. Это обстоятельство влияет на рабочих гораздо больше, нежели брошюры и рубли. При этом следует отметить, что коммунистическое движение в Германии, опирающееся на традиции марксистского образа мышления трех поколений, меньше всего нуждается в подобной помощи извне»[332].
Имеющиеся в распоряжении исследователей документы говорят об обратном. На протяжении 1919 года усилиями коминтерновских эмиссаров в Берлин были переправлены значительные суммы в рублях и марках, бриллианты и прочие драгоценности. Среди лидеров КПГ разгорелась настоящая борьба за управление финансовыми потоками. Александр Абрамович, посланный Лениным для создания коммунистических партий в странах Европы, в своем отчете от 29 сентября 1919 года возмущался тем, что из-за субсидий из Москвы немецкие коммунисты совершенно забросили сбор членских взносов.
«Создается соревнование, чтобы попасть ближе к портмоне. Все мыслят только так, что за всякую мелочь член партии должен быть вознагражден». Каждый считает, что если он получит достаточно денег, то сделает революцию. «Дезорганизация, которую внесли средства, хаотически посланные через оказии и любыми курьерами, велики. И лучше ничего не получать, чем получать таким образом…»[333] Это пожелание так и не было реализовано на практике, так как противоречило установкам Исполкома Коминтерна на отбор лояльных кадров путем избирательного финансирования.
В качестве примера можно привести решение ИККИ от 22 июля 1919 года: «Командировать и дать тов. Курелла для Немецкой коммунистической партии в Австрии ценностей на 300 000 руб. Ценности эти подлежат выдаче лишь в том случае, если партия работает хорошо». В противном случае член руководства КПГ Альфред Курелла должен был перевезти их в Германию[334]. Однако и месяцем позже секретарь ИККИ Ян Берзин просил у Зиновьева ускорить отправку денег «спартаковцам», которая постоянно срывается из-за бюрократической волокиты[335].

Ян Берзин
1920-е
[Из открытых источников]
Нелегальный характер финансирования делал неизбежным появление цепи посредников при передаче денег от большевиков к их зарубежным соратникам. В Германии такую функцию принял на себя Яков Рейх, получивший при отъезде из Москвы напрямую из Госбанка огромные средства[336], формально предназначавшиеся для организации издательств Коминтерна. Будучи к тому же доверенным лицом Зиновьева, он в какой-то момент оказался «серым кардиналом» КПГ, не только финансируя компартию, но и контролируя проведение ею линии, разработанной в Москве. Это запрограммировало его постоянные конфликты с лидерами германской компартии, которые не без оснований подозревали, что Рейху поручена слежка за ними.
Во время пребывания в тюрьме Радек находился в постоянном контакте с руководством КПГ, удаленно принимая участие в подготовке всех партийных совещаний лета — осени 1919 года. Там же он познакомился с рукописью работы Розы Люксембург о русской революции. Понимая, какое значение имеет образ несломленной революционерки, принявшей мучительную смерть, он в дальнейшем отстаивал версию о том, что по выходе из тюрьмы Роза сняла свою критику в адрес большевиков, согласилась с их политическим курсом и в ходе Германской революции никаких разногласий между ними больше не возникало[337].
В Кремле не жалели усилий для вызволения Радека из тюрьмы — он был даже назначен чрезвычайным и полномочным представителем Советской Украины в Германии (после этого тюремную парашу в его камере заменил фаянсовый горшок[338]). Через адвоката Курта Розенфельда Радек находился в контакте со своим недавним начальником — в августе Чичерин уверял узника Моабита, что советской дипломатии удалось добиться гарантий английского правительства для его безопасного проезда через Литву, если немецкие власти решатся на его освобождение[339].
Сам заключенный времени даром не терял, руководил из заключения компартией и встречался с политиками и предпринимателями, рисуя и первым, и вторым блестящие перспективы сотрудничества с Россией[340]. «Салон Радека», разместившийся в конце концов в квартире тюремного надзирателя, стал образом для неформальной дипломатии, граничащей с авантюризмом. О либеральном отношении к нашему герою властей демократической Германии свидетельствовал уже тот факт, что он беспрепятственно писал воззвания от имени коммунистических групп разных стран, которые потом рассылались их «авторам»[341].
Радек не был бы Радеком, если бы во время вынужденного ограничения стенами тюремной камеры не попробовал свои силы на теоретическом фронте. Пытаясь применить ленинскую модель партии профессиональных революционеров к условиям Центральной и Западной Европы, он написал брошюру со скромным названием «Развитие мировой революции и тактика коммунистических партий в борьбе за диктатуру пролетариата»[342]. В ней автор свел воедино сложившуюся у него картину международных отношений и личный опыт общения с немецкими коммунистами первого часа, сопоставил решения Первого конгресса Коминтерна, которые вышли в свет на немецком языке, с итогами первых конференций КПГ.
Работа начиналась с апокалипсического видения перспектив мирового развития — прошедшая война была последней для капиталистического строя в целом, и для Германии в частности — ибо в будущем эту страну добьют правящие круги стран Антанты перед тем, как сами отправятся в историческое небытие. Только пролетарская революция способна расчистить руины, оставленные войной. В ходе своей революции из-за демократических иллюзий германские рабочие добровольно отдали власть буржуазии, но им придется вновь подниматься на борьбу за «Федеративную Социалистическую Всемирную республику Советов».
Осенью 1918 года в Германии произошла полная реставрация прошлого, исчезли только монархические вывески, утверждал автор. Поскольку революция победила без борьбы, победа контрреволюции произошла точно так же. В брошюре был детально разработан вопрос об отличиях ситуации в России от Западной Европы: в последней имелся разрешенный крестьянский вопрос, эффективный государственный аппарат и прочные позиции реформистских партий. Тем более актуальным, по мнению автора, становится формирование в европейских странах коммунистического авангарда, который должен «вылущиться» из потерпевшей крах социал-демократии. Нельзя жить в безвоздушном пространстве, демонстрируя «детское коммунистическое сектантство» в ожидании того, что массы сами придут к коммунизму. Эпоху революционной борьбы сменил период будничного партийного строительства[343]. Через пару месяцев этот тезис возьмет на вооружение Ленин, начав излечение «детской болезни левизны» в зарубежных компартиях.
Не менее ярко и доходчиво Радек высказался по поводу верхушечной организации переворотов и вооруженных восстаний, которые в Германии 1919 году превращались в карикатуру на самих себя, но стоили жизни многим сотням радикально настроенных активистов. «Опасность путчизма будет преодолена только тогда, когда собственный опыт рабочих, их разбитые головы докажут им, что не так уж и неправа была КПГ, утверждая, что нельзя считать образцом врачебного искусства попытку насильно извлечь на свет здорового ребенка на втором месяце беременности»[344]. В работе подчеркивалась необходимость искать в Германии отличные от России пути борьбы. Простое перенесение на зарубежную почву рабочих Советов приводит к тому, что они теряют свою революционную направленность, превращаются в дополнение к существующим профсоюзам. Поэтому в Германии в конце 1918 года «не было действительно массового стремления к созданию рабочих советов».
Можно быть уверенным в том, что Радек разделял сомнения Розы Люксембург о преждевременности образования Коммунистического Интернационала, однако предпочитал держать их при себе. Международная организация коммунистов способствовала поляризации сил в рабочем движении, писал он, привела к появлению центра, на который будут ориентироваться революционные рабочие. Партии левых социалистов рано или поздно придут в ее ряды, «и, будем надеяться, без своих вождей». История еще посрамит тех, кто считает Коминтерн «организатором тайных заговоров посредством засылки эмиссаров, московской фабрикой революционных рецептов»[345]. Коммунизм нельзя насадить силой, перед нами — период сосуществования пролетарских и коммунистических государств, подчеркивал автор. Лишь через несколько лет с этим тезисом согласятся в руководстве Коминтерна, добавив к «сосуществованию» прилагательное «длительное», а после 1945 года — еще и «мирное».
Во время пребывания в тюрьме, а затем под домашним арестом Радек заочно схлестнулся с самим Карлом Каутским. В данном случае он не предвосхищал ленинские взгляды, как в случае с «левизной», а следовал за ними, высмеивая филистерство крупнейшего марксистского теоретика в своем фирменном стиле: карасю нравится быть запеченным в сметане, как утверждают поваренные книги. Но буржуазия не карась, и она вряд ли отдаст все свои богатства. Убеждать ее — все равно, что размахивать картонным мечом перед лицом грабителя.
Надежды Каутского на то, что западноевропейским пролетариям не придется прибегать к террористическим методам, так как они составляют большинство населения и могут проголосовать за свои права, являются чистой утопией. «Пролетариат не кровожаден, но он знает из исторического опыта, что насилие и террор никогда не создавали новых производственных отношений, не формировали новый общественный строй»[346].
Подобные фразы, равно как и утверждение, что «пролетариат знает, что силой не заставить крестьян возделывать их поля», выглядели почти как антисталинский манифест, хотя и были написаны еще в 1919 году. Утопия «светлого будущего», в которое следовало революционным насилием загнать население вначале одной России, а затем и всего земного шара, расцветала на почве, обильно политой кровью вначале мировой, а потом и гражданской войны.
Радеку, как и его единомышленникам в руководстве партии большевиков, следует предъявить исторический упрек в другом: толкуя в свою пользу понятие «диктатуры пролетариата», они отказывались разделить власть с идейно близкими им политическими силами левого толка. Известная шутка той эпохи — в России может быть несколько партий, только одна из них будет править, а другим придется сидеть в тюрьме — вполне соответствовала менталитету «солдат революции», олицетворением которого были слова и дела Карла Радека.
В начале 1920 года советско-германские переговоры о его освобождении завершились — Радека обменяли на нескольких немецких военнопленных, задержанных в России в качестве заложников. Его путь пролегал через вернувшую себе независимость Польшу, которую Радек мог бы считать своей родиной. Там знаменитого соотечественника буквально задушили своим вниманием польские офицеры. Один из них, генерал Сикорский, позже станет премьер-министром Польши. Всех волновал один и тот же вопрос: «Как же это я, воспитанный в польской культуре, могу быть большевиком и могу посягать на независимость Польши?»[347] Вряд ли их убедили уверения оппонента, что Советская Россия не собирается посягать на нее. До советско-польской войны оставались считанные недели. Оказавшись на границе, которая выглядела как линия фронта, Радек попросил две подводы для багажа, состоявшего почти исключительно из книг, и потребовал прекращения всяких военных действий в момент перехода им линии фронта[348]. Начиналась вторая глава его российской биографии.
2.9. Карл Радек и Пауль Леви
Покинув Германию, Карл Радек не оставил своим вниманием КПГ, с большими потерями пережившую первый год своего существования. Пауль Леви, возглавивший партию после гибели ее вождей, олицетворял собой образ партийного интеллигента, одаренного публициста, но слишком мягкого человека для того поста, на который привели его арьергардные бои германской революции. Важным фактором силы для него было знакомство с русскими эмигрантами, укрепившееся в годы Первой мировой войны, когда они вместе пытались сформировать в Швейцарии интернационалистскую альтернативу социал-патриотам. Именно Леви сыграл важную роль при организации легендарного возвращения Ленина и его соратников в Россию в «пломбированном вагоне». Поручившись перед германскими властями, что в нем будут только граждане Российской империи, Леви прекрасно знал, что среди них через всю Германию собирается проехать и австро-венгерский подданный Карл Радек.
В отличие от последнего новый лидер КПГ оказался не в своей тарелке. «Гуманистически настроенный, блестящий аналитик и яркий оратор, адвокат Пауль Леви легко завоевывал симпатии интеллектуалов. Гораздо труднее ему было убеждать простых рабочих. Его высоко ценили в партии за несомненные способности, но он так и не стал популярной фигурой»[349]. Весной — летом 1919 года он легально проживал во Франкфурте-на-Майне, в то время как Правление КПГ несколько раз покидало Берлин, спасаясь от полицейских преследований. Следы его руководства невозможно найти ни в мартовской всеобщей стачке в Берлине, ни в деятельности коммунистического правительства Советской Баварии в апреле 1919 года.
Зачарованный победой российских большевиков, Леви сосредоточил свое внимание на собирании партийных сил, действуя в целом в духе ленинской модели расколов и отмежеваний. Как и Ленин в годы эмиграции, Леви вел борьбу на два фронта, пытаясь отобрать массовую базу у левых коммунистов, центром которых был Гамбург, и у пацифистски настроенных социалистов, находившихся справа от КПГ. Последние в апреле 1917 года образовали собственную партию — Независимую социал-демократическую партию Германии (НСДПГ), войдя в историю немецкого рабочего движения как «независимцы».
Леви крайне ревниво относился к любым попыткам независимцев наладить прямые контакты с Москвой, поскольку те пытались возродить традицию единого социалистического движения эпохи Маркса и Лассаля. У большевиков не может быть зарубежных друзей, могут лишь быть закаленные в борьбе единомышленники, неоднократно подчеркивал лидер КПГ. Слух о том, что в Россию с ознакомительной поездкой отправляется сам Карл Каутский, заставил его написать письмо Ленину. Леви увидел в этом попытку левых социалистов выступить в роли посредников между Советской Россией и Германией и прямо заявил, что предпочел бы видеть в этой роли кого-то из буржуазных политиков. Он предупреждал московских товарищей, что Каутский и его единомышленники тут же запишут «дружбу с вами» на свой счет, заработав дополнительные очки в борьбе за влияние на радикально настроенных рабочих. «Для нас сейчас сильнейшим препятствием являются двусмысленность и лживость независимцев»[350], — подчеркивал Леви в своем письме.
После гибели Розы Люксембург Леви нашел друга и единомышленника в лице Клары Цеткин, которая, как и он, олицетворяла собой умеренное крыло КПГ. 29 марта 1919 года Цеткин была кооптирована в Правление партии. Для Карла Радека, хорошо знавшего обеих женщин, они являлись воплощением пережитков довоенного социалистического движения. Это было как минимум несправедливо. Клара Цеткин уже на начальном этапе германской революции давала весьма жесткие оценки демократическим иллюзиям рабочего класса, который «получил власть без серьезной борьбы». Надежды на то, что социалисты на первых порах смогут делить власть с буржуазными партиями, не только беспочвенны, но и политически вредны, подчеркивала она. Спартаковцам отводилась роль паровоза, который «толкал бы массы вперед к принципиальным оценкам и революционному мужеству»[351].
В своих письмах руководителям КПГ из тюрьмы Моабит Радек противопоставлял их колебаниям жесткую линию российских большевиков, которых считал людьми дела, а не бесплодных мудрствований. Леви платил ему той же монетой, подчеркивая специфику условий, в которых живут и борются немецкие рабочие, выступая за постепенность и размеренность движения коммунистов к конечным целям своего движения. Согласно воспоминаниям его соратников, Леви неоднократно говорил, что если европейский пролетариат не придет на помощь Советской России, то в этой стране возникнет жесточайшая диктатура[352]. Эмиссаров Исполкома Коминтерна, чувствовавших себя хозяевами на заседаниях Правления КПГ в Берлине, он называл «туркестанцами»[353], а однажды в полемическом запале даже предложил «московским товарищам из Коминтерна» переехать в Копенгаген, чтобы быть поближе к сфере своей деятельности.
Один из таких эмиссаров, уже упомянутый выше Абрамович, после неоднократных пребываний в Германии в 1919 году рисовал малопривлекательную картину КПГ: «Партия, раздираемая внутренней борьбой, очень слаба, и теперь самой важной задачей является ее внутренняя реорганизация. Преследования, посыпавшиеся на партию вследствие того, что синдикалисты в своей последовательности докатились до испанских методов борьбы (т. е. терроризма, пассивной забастовки и прочих прелестей анархизма), отпугивают массы от партии. Средние слои вследствие полного отсутствия информации о нашей партии считают ее составленной из грабителей и разбойников»[354].
В начале своей истории КПГ, хотя и не являлась шайкой грабителей, все же находилась достаточно далеко от той модели партии профессиональных революционеров, которую построил Ленин в России и пропагандировал Радек за ее рубежами. Репрессии, обрушившиеся на КПГ на завершающем этапе германской революции, привели к тому, что отдельные региональные организации жили собственной жизнью без прочных контактов с центральным аппаратом[355]. После того, как была запрещена газета «Роте Фане», являвшаяся официальным органом ЦК КПГ, берлинская организация стала издавать собственную газету с таким же названием, которая отстаивала линию левой оппозиции. «Разброд и шатания» — такова была самая краткая характеристика партии, которую транслировали в Москву коминтерновские эмиссары.
Важной частью вопроса о недостатках партийного строительства являлся сюжет, связанный с «русскими деньгами». Оставленные советским полпредом Иоффе в ноябре 1918 года несколько миллионов марок были конфискованы правительством, деньги и драгоценности, которые привозили в Берлин агенты Коминтерна, зачастую распределялись без участия руководства КПГ. Леви настаивал на том, чтобы партийные организации на местах обходились без финансовой подпитки извне, ибо «русские деньги» приводят к коррупции аппарата, однако его голос так и остался неуслышанным. Лео Йогихес, третий человек в КПГ при Либкнехте и Люксембург, был менее щепетильным, обращаясь к Ленину: «Если у Вас имеется заграничная валюта (любая), пришлите по возможности крупные суммы», заделав их в двойное дно чемоданов[356]. После убийства Йогихеса Ленин потребовал немедленно отправить новую порцию денег немецким коммунистам, не уточняя их предназначения[357].

Лео Йогихес (Тышка)
Не ранее 1919
[Из открытых источников]


«Объективная ситуация благоприятна, наше движение и партия быстро растут»
Письмо лидера КПГ Л. Йогихеса (Тышки) В. И. Ленину
4 февраля 1919
[РГАСПИ. Ф. 5. Оп. 3. Д. 267. Л. 1–1 об.]
Как и Ленин, Радек рассматривал механическое изгнание левых на Гейдельбергском съезде КПГ осенью 1919 года как упущенный шанс внутрипартийной консолидации[358]. Находясь в тюрьме, он не имел возможности напрямую участвовать в подготовке съезда, но в личном письме к Леви высказался против организационного раскола. Если избавление от левых вождей представлялось ему позитивным явлением, то уход их рядовых сторонников противоречил курсу на «сплочение, а не на раскол сил, противостоящих капитализму»[359].

Рут Фишер (Эльфрида Эйслер)
Декабрь 1922
[РГАСПИ. Ф. 491. Оп. 2. Д. 275. Л. 1]
Связной между Правлением КПГ и «салоном Радека» стала Рут Фишер, одна из основательниц австрийской компартии, в августе прибывшая в Берлин из Вены. На тот момент ей не было и двадцати пяти лет. Как шутили впоследствии в Коминтерне, миловидная и решительная Рут грудью прокладывала себе путь на высшие этажи коммунистической номенклатуры. Не последнюю роль сыграла в этом ее пусть и мимолетная, но все же весьма яркая связь с Карлом Радеком.
Находясь в тюремной изоляции, последний чувствовал себя свободным и от большевистской дисциплины, и от давления ленинского авторитета. В одной из своих работ он даже завел речь о «рабочем правительстве», коалиции социалистических партий как о лозунге переходного периода, т. е. паузы между двумя революционными волнами. Пусть опосредованно, но идеи умеренных коммунистов вроде Леви устами Радека транслировались в Москву, хотя в официальный лексикон Коминтерна они войдут лишь двумя годами позже, став основой тактики «единого рабочего фронта».
2.10. Секретарь Исполкома Коминтерна
По возвращении в Москву Радек первым делом отправился на деловой обед с Чичериным и Караханом, однако работы в Наркоминделе для него больше не нашлось. Его строптивый характер, неорганизованность и развязный язык никак не подходили для дипломатической работы, которая даже в условиях Советской России вернулась в традиционную колею. Бунтари и революционеры проходили теперь по линии Коминтерна, в который и был определен бывший «моабитский узник», на протяжении целого года выступавший в советской прессе главной жертвой мирового империализма и реформистского соглашательства.
Показательно, что он был введен в состав Исполкома 8 апреля 1920 года, в один день с принятием решения о созыве Второго конгресса Коммунистического Интернационала[360]. Затишье в стенах арбатского особняка, где разместился аппарат ИККИ, сменилось лихорадочной активностью. Было налажено делопроизводство, «дорогостоящие организации с многочисленным персоналом возникали за одну ночь. Интернационал стал бюрократическим аппаратом еще до того, как родилось настоящее коммунистическое движение», — делилась своими впечатлениями Анжелика Балабанова, покинувшая его ряды как раз в момент прихода туда Радека, что было также весьма символично[361].
Ее оценки опережали реальный ход событий. В первые годы своего существования Коминтерн был одним из зримых последствий Российской революции, и его зарубежные сторонники питали искренние надежды на то, что рост коммунистического движения вширь не только ослабит контроль представителей РКП(б) над отдельными компартиями, но и приведет к модернизации их идейной базы с учетом опыта и особенностей политической борьбы в той или иной стране. В то же время статьи Радека в прессе указывали на ту роль, которую продолжают играть в странах, только что получивших свою независимость, национальные чувства. Для его русских соратников это выглядело холодным душем, порождало подозрения не только в пессимизме, но и в капитуляции перед трудностями, в данном случае — в ходе советско-польской войны. На этой точке зрения стоял секретарь ЦК Преображенский, которого поддержал Ленин: «не пересаливать, т. е. не впадать в шовинизм, всегда отделять панов и капиталистов от рабочих и крестьян Польши»[362].

Делегаты Второго конгресса Коминтерна выходят из Смольного
Слева направо: М. И. Калинин, К. Б. Радек, Г. Е. Зиновьев, А. Балабанова, Дж. Серрати, Н. И. Бухарин.
19 июля 1920
[РГАСПИ. Ф. 489. Оп. 2. Д. 66. Л. 1]
Действительно, в тот момент судьбы мировой революции, как она виделась большевикам, еще далеко не были предрешены. Коминтерн, как и сам большевистский режим, находился перед важной исторической развилкой. Многие иностранные наблюдатели ожидали, что на предстоящем конгрессе Коммунистический Интернационал заявит о себе как о самостоятельном политическом субъекте, избавившись от «русской скорлупы». Не стесняясь в выражениях, Радек именно в таком ключе выстроил свой доклад о международной работе на Девятом съезде РКП(б). Согласно архивной стенограмме (этот пассаж не попал в опубликованный протокол съезда) он заявил: «Когда товарищи из Москвы посылали товарища в Европу от имени Исполкома и говорили: делайте все по-русски, это было связано с полным непониманием положения на Западе»[363].
В процессе подготовки конгресса между членами РКП(б), откомандированными для работы в Коминтерне, разгорелась борьба за то, кому будет поручено подготовить его ключевой документ — условия принятия в международную организацию коммунистов так называемых центровиков, т. е. левых социалистов, покинувших Второй Интернационал и еще не создавших собственное интернациональное объединение. На заседании ИККИ 18 июня 1920 года Радек так обосновывал значение данного пункта повестки дня: «…существует опасность, что под давлением масс правые, реформистские или центровые вожаки старой социал-демократии, старого Интернационала перед лицом крушения этого Интернационала будут пытаться подменить коммунизм деятельный фразами о коммунизме, что они готовы подписать на бумаге всякие заявления о „диктатуре пролетариата“, о советской власти, дабы в решительный момент удержать рабочих от этой борьбы»[364].

Евгений Алексеевич Преображенский
Декабрь 1922
[РГАСПИ. Ф. 491. Оп. 2. Д. 272. Л. 1]
В то же время он жестко выступил против попыток запретить участие в работе предстоящего конгресса тем представителям левых социалистов, кто в годы мировой войны поддержал линию на «защиту отечества». Нам нужен не маленький кружок, который собирается время от времени, подчеркнул новоиспеченный секретарь Коминтерна на заседании ИККИ 28 июня, а широкое международное движение. Но если брать на учет за рубежом только совершенно безгрешных революционеров, то в Третий Интернационал принимать будет попросту некого[365].

Второй конгресс Коминтерна должен был войти в историю как начало новой эпохи в истории человечества.
Эскиз обложки альбома конгресса, предложенный Б. М. Кустодиевым
Июль 1920
[Из открытых источников]
История с приглашением на конгресс делегаций «сочувствующих» имела свое продолжение уже после начала конгресса. Прибывшие с опозданием делегаты от КПГ поставили перед Исполкомом Коминтерна ультиматум: если «леваки», изгнанные из партии на Гейдельбергском съезде и образовавшие собственную коммунистическую группу (КРПГ), будут допущены в зал заседаний, то мы сразу же возвращаемся обратно в Германию. «Наши товарищи считали это недопустимым, опасаясь, что равноправный допуск синдикалистских, более или менее антикоммунистических организаций, приведет к нежелательным изменениям характера Коммунистического Интернационала», — вспоминал один из участников дискуссии[366].
В ходе самого конгресса Радек был одновременно и правой рукой, и скрытым оппонентом Зиновьева. Не случайно последний сразу же после завершения конгресса с радостью сообщил своему личному эмиссару в Берлине, что Радека удалили из Коминтерна[367]. Благодаря своему участию в работе Циммервальдского движения Радек сохранил прочные контакты с левыми социалистами, да и вообще выглядел после возвращения из Берлина настоящим иностранцем, несмотря на членство в РКП(б).

Делегаты Второго конгресса Коминтерна в Большом Кремлевском дворце. Во втором ряду слева направо: неизвестный, председатель Совнаркома Украины Х. Г. Раковский, К. Б. Радек, делегаты Украины Д. З. Мануильский, С. И. Гопнер, Н. А. Скрыпник
23 июля — 6 августа 1920
[РГАСПИ. Ф. 489. Оп. 2. Д. 129. Л. 1]
На первых порах он пытался внести в работу международной организации коммунистов европейский дух. Выступая на заседании Исполкома 28 июня 1920 года, наш герой подчеркнул, что руководство Коминтерна «не может играть роль папы [Римского. — А. В.], который все решает согласно своему усмотрению. Очень полезно и даже необходимо, чтобы члены Исполкома установили свою точку зрения, споря с другими партиями»[368]. Он сохранил способность восставать против политики, которую считал роковой и даже гибельной. К началу конгресса части Красной армии, двигаясь на Запад, овладели Вильнюсом и Минском, развернули наступление в направлении Варшавы[369]. Радек, поддержанный рядом немецких и польских коммунистов, считал, что вторжение в Польшу сплотит местный рабочий класс вокруг буржуазии, позволит поднять на щит националистические лозунги. Кроме того, они не хотели давать пищу западной пропаганде, трубившей о «красном империализме».
Однако победила радикальная точка зрения — «прощупать красноармейским штыком, готова ли Польша к советской власти». Уже после завершения конгресса Радек говорил, что у девяти десятых его делегатов наступление на Варшаву вызвало неподдельное удивление[370]. На партийной конференции в сентябре он не щадил авторитета вождя: «Теперь т. Ленин показывает новый метод собирания информации: не зная, что делается в данной стране, он посылает туда армию. Я спрашиваю, товарищи, неужели у нас нет других методов, при помощи которых мы могли бы получить те же самые результаты в смысле ознакомления с положением в стране?.. В основе нашей ошибки лежала переоценка зрелости революции в Центральной Европе, и поэтому мы не должны в будущем догматически подходить к вопросу» об интервенции в другие страны с целью их советизации[371].
Впрочем, несмотря на свой острый язык и шокирующую прямолинейность, Радек быстро усвоил правила и привычки, утвердившиеся в руководстве РКП(б) под влиянием опыта Гражданской войны. Отстаивая свою точку зрения в узком кругу партийного и коминтерновского руководства, на пленарных заседаниях конгресса и массовых митингах в его честь он неизменно выступал со стандартным набором патетических лозунгов, соответствующих генеральной линии РКП(б).
На церемонии закрытия конгресса в Большом театре 7 августа 1920 года Радек провозгласил: «…польский рабочий класс великолепно знает, что Советская Россия идет не для того, чтобы уничтожить независимость польского народа, а напротив, чтобы помочь польским рабочим разбить цепи, которые наложены на них капиталистами Польши и Антанты»[372]. Естественно, такое мнение польского рабочего класса собравшиеся встретили бурными и продолжительными аплодисментами.

Джон Рид
Художник И. И. Бродский
1920
[РГАСПИ. Ф. 489. Оп. 1. Д. 68. Л. 22]
За несколько часов до этой церемонии состоялось первое заседание Исполкома Коминтерна нового созыва. Совершенно неожиданно оно едва не обернулось дворцовым переворотом — после того, как Зиновьев назвал кандидатуры в Малое бюро ИККИ, которому предстояло стать органом оперативного управления международным коммунистическим движением, Леви предложил создать пост «политического генерального секретаря» и назвал имя Радека[373]. Его поддержали Серрати и американский делегат Джон Рид.

Джачинто Серрати
Художник И. И. Бродский
1920
[РГАСПИ. Ф. 489. Оп. 1. Д. 68. Л. 38]
Зиновьев не мог скрыть своего удивления таким демаршем: «…для меня неожиданно предложение германской компартии». Поднаторевший в партийных интригах, он, вероятно, решил, что за ним стоит его главный соперник, мобилизовавший своих сторонников. Зиновьеву пришлось раскрыть карты: Карл Радек не может войти в Малое бюро Исполкома, потому что на днях отбывает в Польшу — «там теперь разрешается очень многое». Председатель ИККИ буквально уговаривал иностранных членов Исполкома: «Когда вы к этому вопросу подойдете с интернациональной точки зрения, вы согласитесь с тем, что такой польский революционер, как Радек, должен быть скорее в Польше, чем сидеть в Интернационале, где он может быть заменен кем-нибудь другим»[374].
Крах польского наступления Красной армии дал Радеку очередной шанс заявить о себе как о коммунистическом диссиденте. Выступая на Девятой конференции РКП(б) в сентябре того же года, он осторожно выразил надежду на то, что преподанный классовым противником урок изменит атмосферу в Коминтерне. «Я думаю, что после опыта поражения под Варшавой мы будем более тщательно взвешивать соотношение сил. Но я говорю, что, если мы хотим правильного поворота в общей политической линии, чтобы не обращаться потом в бегство, необходимо, чтобы на Коммунистический Интернационал не переносилась та уверенность, которую имеет ЦК по отношению к русским делам»[375].
Его слова звучали как ультиматум, от которых успела отвыкнуть партия, уже три года пользовавшаяся безраздельной полнотой власти: ЦК РКП(б) «знал и знает, что в этом вопросе я буду с германскими товарищами. Я требую, чтобы ЦК, его представители в Интернационале работали над тем, чтобы быть действительными руководителями в международном масштабе, а не считали себя авторитетнейшими и безоговорочными руководителями, мнение которых должно приниматься безоговорочно и которые могут со дня на день менять свои линии», не допуская никаких возражений[376].
Эмоциональное выступление Радека на конференции РКП(б) не прошло бесследно. У него появился влиятельный покровитель, который разделял его опасения относительно судьбы только что зародившегося коммунистического движения, — Лев Троцкий. Вслед за Радеком он признал, что за рубежом итоги Второго конгресса «истолковываются как организационное закрепление диктатуры РКП в международном масштабе»[377]. Политбюро, которому было адресовано это письмо Троцкого, не сочло его достаточным поводом для обсуждения.
2.11. Открытое письмо КПГ
Несмотря на пышный прием в Москве и неоднократные встречи с Лениным и другими лидерами РКП(б), которые подтверждали мнение, что КПГ находится на особом счету у Коминтерна, лидеры партии вернулись в Берлин разочарованными, если не сказать подавленными. Работа Второго конгресса затянулась почти на месяц и была неожиданно свернута по приказу сверху («русские товарищи» сосредоточили свое внимание на событиях под Варшавой), организационной перестройки ИККИ провести не удалось, идея Леви о назначении Радека генеральным секретарем Коминтерна лишь углубила взаимное недоверие лидера КПГ и всесильного Зиновьева.
Немецкие делегаты вновь и вновь выражали свои претензии по поводу представителей ИККИ в Берлине, несогласованная деятельность которых создавала организационную неразбериху и серьезные проблемы в коммуникации компартии с Москвой. Формально идя им навстречу, Исполком провел решение о роспуске Амстердамского бюро и Берлинского секретариата, мотивировав это тем, что они имеют тенденцию противопоставлять себя ИККИ[378]. Однако на деле все оставалось по-прежнему: денежные субсидии партия получала через доверенное лицо Зиновьева — Якова Рейха, который использовал их для продвижения своих сторонников и завоевания левых социалистов.
Интрига развивалась и с противоположной стороны. В Москве Радек показал Паулю Леви письма Рейха, в которых тот давал нелицеприятные оценки руководителям КПГ. Вернувшись в Берлин, Леви поставил вопрос о недопустимости слежки и дискредитации Правления партии[379]. О том, что делегация КПГ вернулась из Москвы обиженной холодным приемом и настроена «антирусски», доносили и другие представители ИККИ в Берлине[380]. Рейх добавлял к этому, что немцы намереваются взять издательское дело (а значит, и значительную часть финансовых субсидий) в свои руки, чтобы в будущем работать без посредников[381].
Разочарование немецких коммунистов итогами конгресса было зафиксировано даже руководителем русского отдела Министерства иностранных дел Германии Аго фон Мальцаном. Его информатором стала сама Клара Цеткин, сообщившая, что паломники в Москву «испытали там в материальном плане серьезное разочарование и недоедание». Похоже, чиновник МИД услышал только то, что хотел услышать, и явно недооценил иронии своей собеседницы, которая пообещала ему «не применять коммунистический принцип социализации женщин в границах Германии»[382].
29 августа 1920 года Леви выступил перед берлинскими рабочими в цирке Буша с докладом об итогах Второго конгресса Коминтерна, который был выдержан в восторженных тонах. Однако в узком кругу тональность его рассказов о впечатлениях, полученных в Москве, была совершенно иной. Отчет Председателя партии на Правлении КПГ был наполнен «ненавистью и глубоким пессимизмом… мы все были настолько шокированы, что даже не стали открывать дебаты», утверждал один из участников заседания[383]. Среди прочего он говорил о том, что Москва превратилась в Мекку, куда все правоверные обязаны ехать на поклон. «Русские вожди опьянены своими победами», никто из них, кроме Радека, не имеет ни малейшего представления о немецких делах, а сам Радек не решается перечить догматизму Ленина[384].
Отношения КПГ и ИККИ до и после Второго конгресса являлись наглядным примером того, что робкие попытки компартий сохранить самостоятельность хотя бы в принятии оперативных решений и избавиться от мелочного контроля Центра были обречены на неудачу. На заседаниях конгресса Леви неоднократно выступал с предложениями и замечаниями, которые не вписывались в помпезный сценарий. В то же время он внес немалый вклад в создание культа непогрешимости большевиков, заявив в одном из выступлений, перефразируя слова адмирала Нельсона: «Россия рассчитывает, что каждый исполнит свой долг»[385]. Действительно, безоговорочная верность идее и практике Советской России стала решающим критерием, который отделял коммунистов от прочих левых сил. Впоследствии Зиновьев не удержался от соблазна объявить, что раскусил ренегатскую сущность лидера КПГ уже летом 1920 года, когда тот являлся, «в сущности говоря, не осознавшим себя меньшевиком»[386].
Выстраивая вертикаль власти и подчинения, Исполком пытался замаскировать ее помпезными декларациями о равноправии всех секций Коминтерна, в которые чем дальше, тем меньше верили зарубежные рабочие. Показательными были тон и стилистика обращения ИККИ к членам НСДПГ, призванного опровергнуть тезис о «русской диктатуре» в коммунистическом движении: «Все те бешеные вопли и совершенно неприличные жалобы на мнимое засилье русских коммунистов, которые несутся теперь со страниц газет правых независимых, являются простым проявлением самого низменного национализма и попыткой разжечь самые грубые шовинистические инстинкты отсталых масс»[387].
Назревавший конфликт на какое-то время был погашен обычным способом: «присылка денег изменила настроение ЦК», — сообщал Рейх в Москву 7 октября 1920 года[388]. Во время пребывания в Германии Зиновьева (он приехал на съезд НСДПГ, где большинство делегатов проголосовали за слияние их партии с КПГ) стороны договорились о том, что параллельное информирование ИККИ сохранится, Рейх и далее сможет присутствовать на заседаниях Правления германской компартии[389].
Разрыв Леви с Коминтерном произошел после того, как он вместе с Цеткин принял участие в съезде итальянских социалистов в Ливорно, оба немецких представителя выразили возмущение тактикой выкручивания рук, которую проводили на съезде посланцы ИККИ. Через два месяца, в марте 1921 года группа «левитов» выступила против попытки организации в индустриальном районе Мансфельд-Галле в Центральной Германии вооруженного восстания, к которому подталкивали КПГ эмиссары из Москвы. Попытка была неподготовленной и дилетантской, сопровождалась провокациями партийных активистов и завершилась большими жертвами среди рабочих, взявших в свои руки оружие[390].
Лебединой песней «левитов» явился документ, который был опубликован еще до этих событий и мог бы увести КПГ в сторону от подобных авантюр, открывая для нее перспективу встраивания в национальную политическую повестку. 8 января 1921 года в газете «Роте Фане» появилось Открытое письмо Правления партии, обращенное ко всем рабочим партиям и профсоюзным организациям. В научной литературе расходятся мнения о том, кто был его автором, Пауль Леви или Карл Радек, однако это и не так важно. Несмотря на мелкие конфликты, оба разделяли точку зрения, что в условиях отступления революционной волны следует сосредоточиться на перегруппировке собственных сил, не идя на новые авантюры.
В Открытом письме был сформулирован призыв к совместным действиям в защиту социальных завоеваний германской революции, против урезания зарплаты, нищеты и голода. Речь шла о введении средней нормы пособия по безработице, продаже продовольствия неимущим по сниженным ценам, уплотнении жилплощади, которую занимали буржуазные элементы. К традиционному для левых партий требованию объявить амнистию всем политзаключенным авторы письма добавляли призыв к немедленному восстановлению дипломатических и торговых отношений с Советской Россией.
Главным в обращении было то, чего там не было. Правление компартии отказалось от революционной риторики и нападок на руководителей германской социал-демократии, отдавая себе отчет в том, что очередная порция приевшихся обвинений не добавит компартии никаких симпатий. В основе новой тактики лежало не только стремление отстоять насущные интересы рабочих, но и курс на завоевание массовой базы СДПГ и находившихся под ее влиянием свободных профсоюзов. Возглавив после слияния КПГ и НСДПГ в конце 1920 года массовую рабочую партию, Леви решился на демонстрацию политической самостоятельности, играя ва-банк. Он уже несколько раз подавал заявления об отставке, и отказ Москвы принять новую тактику стал бы достойным поводом для того, чтобы бросить перчатку. В свою очередь Радек, находившийся в тот момент в Германии, видел в Открытом письме шанс пробить стену догматизма в руководстве РКП(б), которое ничего не хотело слышать о стратегическом отступлении в Европе.
Этот шанс превратился в реальную перспективу после того, как его совершенно неожиданно поддержал Ленин: «Я видел только Открытое письмо и считаю его совершенно правильной тактикой (я осудил противоположное мнение наших „левых“, которые были против этого письма)»[391]. Под последними подразумевались Зиновьев и Бухарин, которые продолжали ревниво отслеживать коминтерновскую активность Радека. Коллективная отставка «левитов», случившаяся еще до мартовских событий, перечеркнула намечавшийся поворот КПГ к признанию политических реалий, связанных со становлением Веймарской республики. Так или иначе, «свержение Правления под руководством Пауля Леви в феврале 1921 завершило собой первый этап большевизации КПГ»[392].
Карл Радек оказался в ситуации мучительного выбора. На одной чаше весов находилась новая тактика, которая совпадала с его видением будущего коммунистического движения, на другой — явная нелояльность Леви, который расценил попытку поднять вооруженное восстание как «путч» левых радикалов. Это выглядело как открытая фронда против генеральной линии Исполкома Коминтерна, который устами своего эмиссара Бела Куна требовал от немецких коммунистов следовать «тактике наступления» любой ценой. Для Леви Кун, бездумно транслировавший указания Москвы, являлся «наполовину шутом, наполовину — преступником», об этом он прямо заявил членам Правления компартии.
Принять непростое решение Радеку помог тот очевидный факт, что председатель КПГ, как и он сам, в рабочем движении являлся чужим среди своих. «Леви сплачивал людей против себя, даже тех, кто изначально был готов безоговорочно следовать за его политическим руководством. Вследствие этого он повсюду видел заговоры против себя самого», — писал в своих мемуарах член Правления КПГ Пауль Фрелих. Его товарищи и коллеги, вышедшие из рабочей среды, чувствовали на себе глубокое презрение человека, повседневное поведение которого выглядело для них как череда «аристократических аллюров»[393].
На заседании Исполкома Коминтерна, состоявшемся 22 февраля 1921 года, Радек был вынужден присоединиться к критике германской компартии, прибегнув к уничижительному сравнению: «Перед нами не массовая партия, а ребенок с рахитичными ножками и водянкой головного мозга»[394]. Еще не зная об отставке Леви (она была принята Правлением КПГ в тот же день), он продолжал защищать тактику Открытого письма. Его главным аргументом была ссылка на мнение Ленина.
Однако на тот момент ЦК РКП(б) все еще оставался местом для дискуссий, и в дело вступили оппоненты слева. Не решаясь напрямую перечить вождю, Зиновьев назвал новую тактику «скорее литературным измышлением, нежели массовым движением». Его поддержал Бухарин: «В письме сказано: мы хотим, чтобы пролетариат жил. Это звучит комично. Разве мы живем для нового капитализма? Из этого вытекает только одно следствие, что коммунизм означает смерть»[395].

К. Б. Радек выступает с трибуны на Красной площади на митинге в честь предстоящего открытия Третьего конгресса Коминтерна
17 июня 1921
[РГАСПИ. Ф. 490. Оп. 2. Д. 46. Л. 1]
То, что представители РКП(б) при обсуждении вопроса о КПГ выступили на февральском заседании ИККИ единым фронтом, имело своей причиной тайное соглашение, о котором Радек «вспомнил» лишь два года спустя, в разгар конфликта между ним и его главными оппонентами в Коминтерне. Зиновьев и Бухарин обещали не дезавуировать новую тактику немецких коммунистов, изложенную в Открытом письме, а Радек в ответ закрыл глаза на авантюристические планы сторонников «теории наступления» в КПГ, поддержанных отправленными в Берлин московскими эмиссарами[396].


Принятие тактики единого рабочего фронта было следствием сложного компромисса, достигнутого между соратниками В. И. Ленина в отсутствие вождя
Письмо К. Б. Радека Г. Е. Зиновьеву и Н. И. Бухарину
27 июля 1923
[РГАСПИ. Ф. 326. Оп. 2. Д. 21. Л. 18–23]
Дипломатические компромиссы подобного рода, которые заключали между собой российские лидеры Коминтерна, резко контрастировали с их публичными заявлениями об открытости и прямолинейности пролетарской политики, которая противопоставлялась лживости закулисной дипломатии мирового империализма.
После краха «мартовской акции» присоединение к доводам Леви означало бы для Радека не столько продолжение борьбы с «левизной» среди германских коммунистов, сколько разрыв пакетного соглашения с лидерами большевистской партии, более влиятельными, чем он сам. Не отличавшийся последовательностью и принципиальностью, он несколько дней выжидал исхода борьбы в руководстве КПГ. Если бы «левиты» получили поддержку большинства членов Правления, это привело бы к открытому конфликту между Берлином и Москвой. Кто знает, не увидел ли Радек в этом свой уникальный шанс выйти на авансцену международного коммунистического движения.
Однако Леви остался в меньшинстве и покинул вначале пост председателя КПГ, а затем и саму партию, начав бескомпромиссную публицистическую борьбу с ее путчистскими настроениями. В брошюре «Наш путь», излагавшей обстоятельства конфликта, он давал эмоциональную характеристику руководящего ядра Коминтерна: «Исполком превращается в чрезвычайку, действующую за пределами России… Нынешнее состояние дел, быть может, нормально для Интернационала сект, но неприемлемо для Интернационала массовых партий»[397].
Выбор Радека был предопределен печальным опытом его поражений во внутрипартийных схватках довоенного периода. Ввязываться в безнадежную борьбу проигравшей фракции ему явно не хотелось, тем более что он был связан джентльменским соглашением с Зиновьевым. Он благополучно забыл о том, что писал о леворадикальном путчизме во время заключения в берлинской тюрьме Моабит: «Потребовался ряд кровавых уроков, чтобы передовые отряды пролетариата поняли весь вред местных выступлений и вооруженной борьбы против усиливавшейся капиталистической власти. Потребовались Бремен, мартовские беспорядки в Берлине и Мюнхенская катастрофа, чтобы покончить с путчистскими настроениями в первых рядах германского пролетариата»[398]. Попытка вооруженного восстания в Центральной Германии весной 1921 года наглядно показала, что подобные настроения далеко не изжиты. Отказ Радека от борьбы с ними продемонстрировал, что его тактическая гибкость превратилась в политическую беспринципность.
Чтобы сохранить себя в обойме Коминтерна, Радеку пришлось выступать в роли кающегося грешника, проглядевшего скрытый оппортунизм Леви. «Я сказал себе: моя обязанность удержать его и бросить только тогда, когда он станет действовать против нас». Этот момент настал. «Плохая услуга германской партии, если мы не укажем ей на существование правого крыла», — заявил он на заседании ИККИ 4 апреля 1921 года. Представитель Правления КПГ Курт Гейер не остался в долгу, ответив, что речь идет не о скрытых оппортунистах, а о старых и проверенных кадрах, которые неоднократно выступали против путчистских настроений, видя в них путь в тупик. «Хотя товарищей Радека и Зиновьева трудно заподозрить в любви к сектантской партии, однако та борьба, которую они ведут против мнимого правого крыла, должна неизбежно повести к развитию сектантства»[399].
Силы были неравны, и чуда, подобного исходу борьбы Давида и Голиафа, не произошло. Стремясь отвести от себя удар, Радек в течение нескольких дней написал объемистую брошюру против Леви, послесловие к которой было датировано 1 мая 1921 года. История ренегатства «левитов» описывалась в том же самом духе, в котором будет развиваться сталинская идеология показательных процессов: враг партии — враг изначально, он лишь долгое время маскируется, скрывая свою гнусную личину.
Согласно легенде, придуманной Радеком, его недавний соратник в корыстных целях втерся в доверие к Розе Люксембург, а возглавив компартию, оказался ни к чему не способным нытиком, который постоянно саботировал решения Коминтерна. Единственный упрек, который Радек адресовал самому себе, — он не сразу разглядел, что имеет дело с «политическим резонером, а не революционным борцом». Брошюра завершалась недвусмысленным ультиматумом в адрес тех партийных функционеров, кто скрытно или явно поддерживал свергнутого вождя: в Германии «для партии левых независимцев или правых коммунистов уже не осталось места»[400]. Ядовитый тон публицистики подобного рода вызвал возмущение только у Клары Цеткин[401], но ее мнение уже мало кого волновало.
2.12. Идея единого рабочего фронта
В своей брошюре, посвященной итогам Третьего конгресса, Зиновьев начал готовить компартии к признанию неприятных реалий — революционный кризис первых послевоенных лет закончился, нужно начинать длительную организационную работу по завоеванию на сторону коммунистов большинства рабочего класса[402]. Радек, прочитавший рукопись, написал Председателю ИККИ, что говорить о масштабном повороте Коминтерна «по существу неверно и тактически очень неудобно»[403].
Ситуация в Европе изменилась уже в 1919 году, сразу же после завершения демобилизационного кризиса, и политические оппоненты поставят в упрек коммунистам то, что они признали очевидные истины с таким опозданием. «Друзья же слева заявят, что прав был Троцкий, когда характеризовал работу Третьего Конгресса как тактику отступления».
Радек явно лукавил, когда утверждал, что в политическом плане Третий конгресс был простым продолжением Второго и не изобрел никакой новой тактики коммунистов. Перемена курса была налицо, и ее отстаивал сам Ленин, ссылаясь среди прочего на Открытое письмо КПГ. «Я от своего ребенка, от тактики Открытого письма ничуть не отказываюсь», — подчеркивал Радек, прекрасно понимая, что его акции в Коминтерне после завершения конгресса резко выросли. Естественно, о вкладе Пауля Леви в разработку новой тактики после того, как тот был объявлен ренегатом и исключен из КПГ, предпочитали не говорить.


Критические замечания К. Б. Радека на пафосную оценку итогов Третьего конгресса, данную Г. Е. Зиновьевым
15 сентября 1921
[РГАСПИ. Ф. 324. Оп. 1. Д. 553. Л. 9–10]
Леви, а заодно и чех Шмераль были упомянуты Радеком только в негативном плане как представители политического течения, называющего себя коммунистическим, но так и не ухватившего сути большевизма. «Более опасно то место, в котором Вы обращаетесь против фразы о давлении на массы. Коммунизм всегда давит на массы. Вопрос только, как. Если Вы Ваше замечание оставите в форме, как уже сделали, то оно вызовет впечатление, что Вы вполне сбиваетесь на точку зрения Леви и Шмераля, именно на ту точку зрения, что партия может вести рабочие массы в бой только тогда, когда имеет за собой большинство… Я думаю, что эта точка зрения приговаривает нас к роли партии чистой пропаганды и агитации»[404].
Тональность и содержание письма от 15 сентября 1921 года показывали, что Радек не просто вернулся на позицию «второго лица» в иерархии всемирной партии коммунистов, но и получил себе в вотчину оперативное управление германской компартией. На первом же заседании ИККИ после завершения Третьего конгресса Радек и Зиновьев схлестнулись при обсуждении практики отправки за границу эмиссаров с чрезвычайными полномочиями. Зиновьев согласился с тем, что в данной области сохраняется произвол, но свел проблему к самоуправству отдельных лиц. «Некоторые из наших людей, отправляющихся за рубеж для выполнения какого-нибудь технического задания, например, переправки литературы, сразу же по пересечении границы начинают чувствовать себя представителями Исполкома и мандат вырастает в их глазах. Чем дальше от Москвы, тем больше мандат. И тут совершаются великие глупости»[405]. Радек возмутился, поняв, что это камушек в его огород. Он заявил, что институт представителей — стержень нашей работы, и в данном случае Председатель ИККИ позволил себе выпад против организации, которую сам же и возглавляет. Что же касается недостаточной подготовки кадров, то «осел будет ослом и у нас, и в Испании».
Подобные стычки были нередки в первые годы работы Коминтерна и не приводили к дисциплинарным последствиям, если не затрагивали интересы первых лиц в РКП(б). Летом — осенью 1921 года Радек пользовался полным доверием Ленина и мог считать себя неприкасаемым. Ему и пришлось проводить в жизнь линию на концентрацию сил в руководстве КПГ, которая подразумевала сотрудничество между оставшимися в партии «левитами» и левыми радикалами, захватившими лидерство в Берлинском окружном комитете КПГ. На партийном съезде в Йене (22–26 августа 1921 года) противоборствующие стороны дали соответствующие обещания.
Радек имел все основания занести достигнутую победу на свой счет. 6 сентября 1921 года он писал Якову Рейху: «Партия объявила: да, мы совершили ошибки. В будущем мы будем в тысячу раз более осторожными, но мы хотим вести активную политику, никакая иная невозможна в нынешних условиях. Исход выборов в Правление означает, что бразды правления попали в руки активной части партии»[406]. В этих словах было нечто большее, чем удовлетворение бюрократа от удачно проведенного мероприятия. Главный куратор КПГ считал, что партия преодолела зону турбулентности и может ставить перед собой серьезные политические задачи.
Международная обстановка и внутриполитическое положение Германии давали достаточно поводов для того, чтобы коммунисты обозначили свою позицию в вопросах текущей политики, вместо того чтобы подталкивать немецких рабочих к новым революционным боям. После того, как в мае 1921 года на Лондонской конференции были определены параметры репарационных платежей Германии, в стране резко выросла инфляция. С помощью печатного станка правительство пыталось залатать дыры в государственном бюджете, а заодно и обменять на международных биржах как можно больше национальной валюты для осуществления первых платежей. Номинальная зарплата рабочих росла, однако стоимость жизни ее неизменно обгоняла. Временный подъем экономической активности сменила затяжная рецессия, предприниматели переходили к бартерным сделкам, сокращали производство, что вело к росту безработицы, особенно среди молодежи.
Россия также переживала один из переломных моментов своей истории. Революционная и государственная составляющая в мировоззрении и практической деятельности советского правительства все больше расходились между собой. В 1921 году участились конфликты ИККИ и Наркомата иностранных дел, которые выносились на заседания Политбюро ЦК РКП(б). В то время как коминтерновцы едва ли не открытым текстом обвиняли НКИД в саботаже собственной работы, Чичерин выдвигал в защиту своего ведомства неопровержимые аргументы: «Линия НКИД заключается в том, чтобы через миллионы трудностей благополучно прошла советская республика, цитадель мировой революции. Только с антибрестской точки зрения безразличия к существованию Советской республики можно эту линию отвергать… Все повсеместно смешивают РСФСР и Коминтерн, и несвоевременный шаг его может создать нам катастрофу»[407].
Гражданская война и политика военного коммунизма разрушили народное хозяйство страны, в Поволжье бушевал страшный голод. Зарубежные коммунисты прилагали немалые усилия для того, чтобы организовать международную кампанию помощи России, для этого были созданы специальные бюро в Москве и Берлине[408]. Исполком Коминтерна на своих заседаниях, посвященных организации кампаний солидарности с Советской Россией, рассматривал вопрос об обращении за поддержкой к Международному рабочему объединению социалистических партий (МРОСП), вошедшему в историю как Венский Интернационал[409]. Тем самым создавалась основа для совместных политических акций, которая в полной мере соответствовала духу и букве Открытого письма.
Своеобразной формой помощи Советской России в годы нэпа стало направление в нее по путевкам КПГ квалифицированных рабочих, владевших новейшими технологиями, освоенными в германской промышленности. Одна из таких колоний сформировалась на московском Электрозаводе, где в течение нескольких лет смогла наладить производство ламп накаливания с вольфрамовой нитью[410]. Фактически речь шла об идейно мотивированном промышленном шпионаже, который сыграл не последнюю роль в индустриализации СССР.
Ставка на идейных соратников делалась и при вербовке советской военной разведкой своих кадровых агентов. Документ соответствующего совещания, датированный 7 апреля 1921 го-да, давал однозначную установку: «1. Классовый характер войны, которую ведет Советская Россия с окружающими ее белогвардейскими государствами, создает необходимость постановки агентурной работы по отношению к государствам, обладающим развитым рабочим классом, на классовых началах… 2. Классовый характер агентурной работы выражается:
а) в подборе агентов на основе партийности и классового происхождения;
б) в самом широком содействии коммунистических организаций воюющих с нами государств»[411].
Комментируя этот и другие аналогичные документы, авторы сборника, посвященного становлению советской разведки, подчеркивают, что ее руководство «никогда не переоценивало помощи, оказываемой разведке со стороны организаций зарубежных компартий как в силу ограниченных возможностей по освещению важнейших военных объектов, так и в силу трудностей конспирации ведения разведывательной работы членами компартий даже при условии полного отхода их от активной партийной работы. Но тем не менее помощь зарубежных коммунистических партий военной разведке была весьма существенной, и, по сути дела, агентурные сети в некоторых странах были созданы при прямой помощи и поддержке коммунистических партий»[412].
Иностранные наблюдатели фиксировали произошедшую смену вех в российской внутренней и международной политике, пришедшуюся на рубеж двух десятилетий. Продолжавший сотрудничать с Радеком журналист и писатель Артур Рэнсом издал в 1921 году книгу, основанную на интервью с лидерами РКП(б). В ней он сформулировал нечто вроде теории конвергенции двух враждебных миров: «Только слепцы не видят того, что коммунистическая Европа меняется так же быстро, как и капиталистическая. Если нам удастся оттянуть начало их борьбы, то по истечению времени воинственные элементы на обеих сторонах забудут о причинах своего противостояния»[413]. Такие практики советского строительства, как Л. Б. Красин и А. И. Рыков, думают не о коммунистической утопии, а о том, как вырвать Россию из вековой отсталости. «Следует признать, что с громкими криками и огромным напряжением коммунисты делают в России то, что на их месте сделало бы любое другое правительство».

К. Б. Радек и А. И. Рыков в кулуарах Третьего конгресса Коминтерна
23 июня — 12 июля 1921
[РГАСПИ. Ф. 490. Оп. 2. Д. 158. Л. 1]
Рэнсом имел в виду новую экономическую политику, которая вернула в страну рыночные отношения и материальный интерес, прежде всего для крестьянства, составляющего подавляющее большинство ее населения. С точки зрения английского журналиста, у Запада не было оснований для того, чтобы мешать модернизации России. Какое бы правительство не пришло после большевиков, оно либо будет проводить их политику — форсированными темпами преодолевать вековую отсталость, либо «позволит России и дальше превращаться в колонию». А это закончится тем, что «русская болезнь» перекинется на всю Европу[414].
Перемены во внутренней и внешней политике Советской России не могли не затронуть сферу Коминтерна. Менее чем через три года после его основания руководство РКП(б) признало крах надежд на «короткую перспективу», которая подразумевала победу рабочего класса в ключевых европейских странах уже в ходе Первой мировой войны или сразу же после ее окончания. «Война не завершилась непосредственно пролетарской революцией», — говорилось в резолюции о мировом положении, принятой на Третьем конгрессе Коминтерна. Новая тактика, вызревавшая на протяжении 1921 года и получившая название «единого рабочего фронта», в большей степени соответствовала как внешнеполитическим задачам Советской России, так и состоянию зарубежных компартий[415].
Левые радикалы и политические сектанты в коммунистическом движении, не желавшие идти на сотрудничество с близкими политическими силами, не без основания называли единый фронт «нэпом во всемирном масштабе». Напротив, рационально мыслящие политики и публицисты как в социалистическом движении, так и за его пределами ставили вопрос о том, не потерял ли смысл его организационный раскол, не приведет ли восстановление единого Интернационала к умножению его политической мощи. Обращаясь к большевикам в лице А. В. Луначарского, писатель В. Г. Короленко выражал мнение многих представителей либеральной интеллигенции на первом году нэпа: «Приходится задуматься о причинах явного разлада между западноевропейскими вожаками социализма и вами, вождями российского коммунизма. Ваша монопольная печать объясняет его тем, что вожди социализма в Западной Европе продались буржуазии. Но это, простите, такая же пошлость, как и то, когда вас самих обвиняли в подкупности со стороны Германии»[416].


Записка В. И. Ленина в Политбюро ЦК РКП(б) о тактике Коминтерна в отношении международного меньшевизма
Не позднее 1 декабря 1921
[РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 22296. Л. 1–1 об.]
2.13. Сближение с социалистами
Курс на политическое сотрудничество различных отрядов рабочего класса стал лейтмотивом деятельности Венского Интернационала, который летом — осенью 1921 года выдвинул ряд конкретных инициатив, пытаясь усадить за стол переговоров коммунистов и социал-демократов. Осенью 1921 года Коминтерн также сделал первые шаги навстречу европейским социалистам, призвав рабочие партии к координации своих действий при сборе помощи голодающим Поволжья и в борьбе против белого террора в ряде европейских стран. Реагируя на сигналы из Москвы и из Лондона, печатный орган НСДПГ газета «Фрайхайт» 4 декабря 1921 года опубликовала план совместных действий всех рабочих партий для защиты немецкого рабочего класса от наступления предпринимателей. «Общность экономических интересов должна отодвинуть на задний план наши прошлые разногласия», — утверждалось в документе.
Решение Политбюро ЦК РКП(б) от 1 декабря 1921 года, запустившее процесс перехода к новой тактике в Коминтерне, осторожно говорило о возможности «совместных действий с рабочими II Интернационала»[417], исключая его вождей, якобы давно и бесповоротно подкупленных буржуазией.
Однако очень скоро стало ясно, что без них не обойтись. Первым это понял Радек, которому не впервой было подавать руку политическим противникам. Переворачивая ситуацию с ног на голову, он утверждал, что откат революционной волны приводит к тому, что для рабочих исчезают какие-либо надежды на реформы, улучшающие их материальное положение. «И если мы сейчас берем новый курс, то это не значит, что мы капитулируем перед Амстердамским, Вторым и Двухсполовинным Интернационалами, но мы подвергаем их такому испытанию, когда они вынуждены будут на глазах масс сбросить с себя маски»[418].
Такая формулировка, многократно растиражированная западной прессой, давала противникам Коминтерна повод для заявлений, что его лидеры отнюдь не стремятся помочь рабочему классу, а хотят только перетянуть его в свои ряды. Не было ясности и среди самих коммунистов. Протеже Радека в КПГ, недавно ставший лидером партии, Генрих Брандлер 4 декабря высказался против того, чтобы брать за основу стихийное движение и вносить сумятицу в представления о пути Коминтерна. «Следует возглавить массы и повести их за собой»[419]. Брандлер, Бестель и другие участники дискуссии повторяли тезис об опасности заражения компартий оппортунизмом, призывали к учету национальных особенностей (так, во Франции в тот момент не было сильной социалистической партии, зато было мощное движение анархо-синдикалистов, которое отказывалось от любых форм сотрудничества с реформистами). Итальянец Дженнари признал, что его партия не сможет объяснить простым рабочим, почему коммунисты вначале раскололи рабочее движение, а теперь предлагают социалистам сотрудничество. Аргументы приводились даже из сферы практического психоанализа: тяга к единству основана на психологии рабочего класса, и следование ей может привести тактический хаос в ряды компартий[420].

Э. Дженнари в Большом Кремлевском дворце
9 ноября — 5 декабря 1922
[РГАСПИ. Ф. 491. Оп. 2. Д. 134. Л. 1]
Ввиду волны протестов со стороны иностранных членов Исполкома[421] было решено провести еще одно заседание, посвященное имплементации новой тактики. По просьбе Зиновьева Радек прислал ему свои замечания к проекту резолюции о едином фронте, в которых сделал акцент на то, что борьба за него диктуется международным положением (банкротство Версальской системы, мировой хозяйственный кризис и т. д.). Дело не в разоблачении лидеров социал-демократии, а в завоевании идущих за нею рабочих, и здесь решающим фактором станет опыт совместной борьбы за свои насущные интересы. «В тех условиях, в каких находится сейчас рабочий класс, любая борьба, даже начавшаяся за частичные цели, будет иметь тенденцию к расширению и углублению, к постановке в повестку дня принципиальных вопросов пролетарской борьбы»[422].
На втором заседании ИККИ, посвященном новой тактике (18 декабря 1921 года), Радек настаивал на обращении к лидерам Венского Интернационала еще до созыва Расширенного пленума Исполкома, назначенного на весну следующего года: следует ковать железо, пока горячо, если мы начнем переговоры в марте, будет уже слишком поздно. Достаточно встретиться с лидерами зарубежных компартий, например, в Стокгольме, чтобы «довести дело до конца, либо они пойдут с нами, либо это останется первой попыткой»[423].
В своих выступлениях Радек признавал, что настроен пессимистически: «по моему личному мнению, 90 % за то, что нам не удастся прийти к рабочему правительству»[424]. Тем не менее наш герой с жаром принялся за дело. 6 декабря 1921 года он обратился со специальным письмом к Правлению КПГ, призывая его членов без колебаний принять новый курс[425]. 21 декабря они единогласно одобрили тезисы ИККИ о едином рабочем фронте, а через день газета «Роте Фане» опубликовала предложение о созыве совместной конференции трех рабочих Интернационалов.
Для того чтобы успокоить лидеров компартий, увидевших в едином рабочем фронте завуалированный роспуск Коминтерна, и в то же время завоевать доверие руководства социал-демократических партий, Карл Радек отправился в один из своих самых длительных вояжей по европейским странам. В своих донесениях он признавал, что зарубежным коммунистам не удалось ни прорвать изоляцию Советской России, ни убедить трудящиеся массы в преимуществах советского строя. «Было бы неслыханно полезно, чтобы нас рабочие видели в Западной Европе, а также, чтобы Вы видели наших людей не в московской обстановке. Эти настроения — безусловные результаты нашего отступления. Люди ожидали, что мы сумеем чудо сделать, а оказывается, что это не умеем»[426].
Отстаивая «европейский стержень» коммунистического движения, посланец Коминтерна в общении с лидерами зарубежных компартий вел себя так, как полководец со своими подчиненными. Радек не был по своей натуре авторитарным человеком, однако время, проведенное им в чрезвычайных условиях Гражданской войны в России, где была достигнута высокая степень милитаризации общественной жизни, делало свое дело. Сразу же по приезде в Берлин он принялся бесцеремонно давить на лидеров французской компартии, выступавших наиболее последовательными оппонентами новой тактики, предложенной большевиками.
Не скрывая своих начальственных амбиций, наш герой следующим образом докладывал об итогах своей встречи с делегацией ФКП, которую возглавлял сам Марсель Кашен. «В вопросе о едином фронте разногласия [оказались] очень велики, поэтому я затребовал от Кашена поездки в Москву. После долгих дискуссий я сказал ему, что отказ вызовет кризис нашего доверия к нему. Кашен обязался ехать»[427]. Все это напоминало процесс наставления грешника на путь истинный, не случайно многие из лидеров зарубежных компартий воспринимали вызовы на заседания Исполкома Коминтерна как «путь в Каноссу».

«Буржуазная конференция в Генуе является новым Версалем», — под таким лозунгом Коминтерн готовил зарубежные компартии к акциям протеста
Письмо К. Радека в Президиум ИККИ
31 января 1922
[РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 156. Д. 51. Л. 2]
В Германии Радек в очередной раз сменил свое амплуа, сосредоточившись на контактах с немецкими военными и дипломатами, чтобы помочь оформлению позиции Советской России на предстоявшей в апреле международной конференции в Генуе. Зиновьев в характерной для себя манере отрицал очевидное, когда говорил делегатам Одиннадцатого съезда партии, что внешнеполитический фактор не играл для Коминтерна никакой роли: преодолевая отвращение, мы пошли на контакт с социал-демократами «в силу интересов международного рабочего движения, а не в силу эгоистических, узких интересов наших, как Советской страны»[428]. Однако буквально в следующем предложении ему пришлось признать, что главным препятствием для налаживания сотрудничества является русский вопрос. Речь шла о репрессиях против российских социалистов — меньшевиков и эсеров.
Радек принимал самое активное участие в подготовке легендарной встречи трех рабочих Интернационалов в Берлине, которая состоялась 2–5 апреля 1922 года[429]. О том, насколько тщательно готовилась к ней делегация Исполкома Коминтерна, свидетельствует тот факт, что все ее заседания стенографировались. Наш герой докладывал об обстановке, в которой в последний день марта прошло техническое совещание сторон: выступавший от имени венцев «Адлер пошел навстречу нам с распростертыми объятьями, а с представителями Второго Интернационала мы даже не обменялись рукопожатиями». Он предложил в случае обвинений со стороны последних немедленно прервать заседание, а потом потребовать дать слово представителям отдельных компартий, чтобы те «перечислили грехи Второго Интернационала в своих странах». Клара Цеткин остудила полемический запал главного докладчика, отметив, что это грозит срывом берлинской встречи, которая имеет только предварительный характер. «Нам нужна большая конференция, где дебаты найдут гораздо больший отклик в массах»[430].
После первого дня работы встречи, в ходе которой стороны обменялись перечнем взаимных обвинений, стало ясно, что обхитрить «прислужников мировой буржуазии» не удастся и придется либо хлопнуть дверью, либо пойти на односторонние уступки. Радек, поддержанный Бухариным, предложил ультимативно поставить вопрос о том, готовы ли делегации двух других Интернационалов в дальнейшем обсуждать исключительно вопрос о подготовке будущего рабочего конгресса, отставив в сторону все остальное. Нужно получить ясный ответ, «будут ли другие делегации вести переговоры или только дискутировать. При этом мы можем сказать, что дальнейшая дискуссия будет означать крах конференции»[431].
О том, что между позициями вчерашних соратников по борьбе за освобождение рабочего класса теперь находилась непреодолимая пропасть, свидетельствовала итоговая оценка, данная делегацией Коминтерна тому, как социалисты относились к одному из самых спорных вопросов — грузинскому. В ее отчете говорилось буквально следующее: «Если Отто Бауэр [лидер австрийских социалистов. — А. В.] вместе с Рамзеем Макдональдом [лидер лейбористской партии. — А. В.] принципиально выступал против „завоевания“ Грузии Советской Россией, то это показывает, что Венское рабочее сообщество не в состоянии оценивать положение в мире с точки зрения интересов пролетарской революции. Для него любая армия является милитаризмом, служит ли она интересам капитала или мировой революции. Как штык является штыком, так для них и любое нападение является нападением, заслуживающим морального осуждения… Разве представителей категорического императива занимает вопрос о защите нефтяных источников русской революции?»[432]

После Берлинской встречи трех Интернационалов Коминтерн настаивал на скорейшей реализации принятых в ее ходе решений
Телеграмма К. Радека Ф. Адлеру
20 апреля 1922
[РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 18. Д. 86. Л. 18]
О том, что «советизация» Грузии была необходима для того, чтобы вернуть России бакинскую нефть, на пленарном заседании берлинской встречи говорил Карл Радек. С полным основанием и этот длинный пассаж, смешавший в одну кучу классовый анализ, геополитические интересы и философский императив Канта, следует признать его творением. В первые годы после революции большевики многие вещи называли своими именами, хотя уже начинали брать их в кавычки. Напомним, что Ленин пенял нашему герою за то, что у того слишком длинный язык. Но подобные аллюры Радека не вызвали и тени порицания у лидера Советской России.
Встреча трех Интернационалов ежеминутно грозила разрывом, но все же завершилась принятием заключительной декларации, которая открывала перспективу совместных действий всех течений международного рабочего движения. Несмотря на то, что позиция делегации Коминтерна, которую возглавляли Радек и Бухарин, была раскритикована Лениным, Политбюро ЦК РКП(б) не дезавуировало итоги встречи[433]. Радек не мог не оставить за собой последнее слово. 15 апреля 1922 года он направил членам Политбюро письмо, в котором выразил надежду на то, что при внимательном рассмотрении протоколов берлинской встречи «вы признаете, что мы были принципиально правы, не допуская срыва конференции на русских делах, но и что мы никакой высокой цены не уплатили». «Я считаю, что в данной стадии развития всякая зубодробительная линия означает срыв этих слабых связей, которые удалось завязать»[434], — подчеркнул коминтерновский дипломат, позволив себе в данном случае не согласиться с ленинской линией.

Ответ О. Вельса на телеграмму Исполкома Коминтерна с призывом к совместным действиям до окончания Генуэзской конференции
22 апреля 1922
[РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 18. Д. 86. Л. 19]
Если «русский вопрос» был фактором отчуждения Москвы от Лондона и Вены, то открывшаяся 10 апреля Генуэзская конференция объективно являлась полем их политического сотрудничества. Оставшийся в Берлине Радек предпринимал максимум усилий для того, чтобы организовать совместные выступления рабочих партий Германии в поддержку советской дипломатии. 20 апреля 1922 года, сообщая Адлеру о ратификации Исполкомом Коминтерна итогов берлинской встречи, он добавлял: «По поручению Исполкома я вношу предложение о скорейшем созыве комиссии девяти для оценки ситуации, возникшей в Генуе. Отказ от дискуссии по разоружению, требование союзников уничтожить все социальные достижения русской революции, отношение союзников к русско-германскому договору показали, насколько опасно дальнейшее откладывание всемирного конгресса рабочего класса… Русская революция буквально находится под угрозой западной дипломатии. В этой ситуации потерять даже одну неделю было бы предательством интересов международного пролетариата»[435]. Чувствуя ветер в парусах, Радек усилил свое давление и на Москву. В случае если Политбюро откажется поддержать выработанную им и Бухариным линию, он потребовал немедленного отзыва из Берлина, что было равнозначно угрозе отставки.
Социал-демократические контрагенты Коминтерна, напротив, не спешили, предпочитая не вступать в конфликт со своими правительствами до выяснения итогов Генуэзской конференции. 10 мая 1922 года Радек сообщал в Москву, что социал-демократы «девятку созовут, но будут тянуть со съездом до результатов процесса [эсеров. — А. В.]. Съезда они не хотят, но боятся отклонить, ибо идея становится с каждым днем все более популярной среди рабочих. Поэтому будут ждать, что им процесс даст возможность отклонить. Главная задача теперь: тут организовать нажим в массах. Это будет туго, ибо организационные способности наших людей минимальны»[436]. Боевая ничья по итогам встречи трех Интернационалов привела его к выводу, что Коминтерн начал политику единого рабочего фронта не с того конца — вначале нужно было показать ее практическую пользу в отдельных странах, не выходя на общеевропейский уровень.
Единственная встреча комиссии девяти состоялась 23 мая 1922 года, когда Генуэзская конференция уже завершила свою работу. Радек сообщал в Москву, что все было решено заранее — после того, как лондонцы уговорили венцев принять участие в особом конгрессе в Гааге, не пригласив на него делегацию Коминтерна, разрыв представлялся лишь делом техники. Для социалистов поводом стало подавление меньшевистских восстаний в Грузии, для коммунистов — нежелание партнеров принимать на себя обязательства по проведению всеобщего рабочего конгресса[437].
Верный себе, по возвращении в Москву Радек добавил сюда еще и геополитическую составляющую: «Социальный смысл условий Второго и Двухсполовинного Интернационалов состоял в следующем: если вы хотите, чтобы мы вместе боролись против наступления капитала в Западной Европе, отдайте украинскую пшеницу, кавказскую нефть и т. д. мировому капиталу». Напротив, обещание делегации Коминтерна не применять смертную казнь по итогам процесса над эсерами объяснялось желанием «опровергнуть мнение отсталых масс, что с такими кровожадными людьми невозможно вступить в единый фронт»[438].
После того, как на заседании 23 мая лейборист Макдональд и Карл Радек зачитали ультиматумы своих Интернационалов[439], обвинив друг друга в срыве апрельских соглашений, комиссия девяти тихо скончалась. Этот день стал воистину «черным вторником» европейского рабочего движения, хотя он лишь превратил в свершившийся факт накапливавшиеся годами тенденции взаимного отчуждения. Только равноправное, основанное на разумном компромиссе соглашение руководства Интернационалов могло бы в тех условиях обеспечить единый рабочий фронт. Последующие попытки и Коминтерна, и Рабочего социалистического интернационала (РСИ)[440] создать такой фронт только снизу являлись, по сути дела, отрицанием идеи политического сотрудничества всех европейских социалистов.
Зиновьев на протяжении нескольких последующих лет претендовал на то, чтобы связать выработку новой тактики уж если не со своим именем, то как минимум с инициативой Ленина, всячески пытаясь отодвинуть Радека на второй план. Это стало гораздо легче после того, как последний присоединился к Троцкому и получил категорический запрет на вмешательство в дела «левого» руководства КПГ. Председатель Коминтерна прибегал к историческим аналогиям, предупреждая его лидеров, что очень боится «голого отрицания единого фронта (чем охотно занимается Рут Фишер). Тактику единого фронта не Радек выдумал — Радек только извратил и опошлил ее. Тактику эту выдвинул и обосновал Ленин»[441]. Переписывание прошлого в угоду настоящему являлось для левых радикалов любой эпохи необходимым условием политического выживания, и лидеры большевизма владели им в совершенстве.
2.14. Вновь на дипломатическом паркете
Для Радека, который не был способен слишком долго сосредоточиваться на одной задаче, попытка налаживания сотрудничества трех рабочих Интернационалов оказалась не более чем эпизодом борьбы коммунистов за место под солнцем. Он не упоминал о ней ни в публицистике, ни в публикациях своих речей и статей. Очевидно, его задела за живое резкая, несправедливая по сути критика Ленина за излишнюю уступчивость, как и любой другой человек, наш герой не любил чувствовать себя мальчиком для битья. Не нравились ему и ежедневные директивы Зиновьева, выдержанные в безапелляционном тоне: к моменту начала суда над эсерами необходимо прибыть в Москву, «но пока Вам важно быть в Берлине для налаживания кампании по поводу процесса социалистов-революционеров»[442]. Сказывалось и то, что после берлинской встречи трех Интернационалов Радек выступил на закрытом мероприятии КПГ и тут же получил предупреждение германского правительства, что в случае повторения подобного будет выслан из страны[443]. Второй раз уходить на нелегальное положение и рисковать очередным арестом Радеку уже не хотелось.
Гораздо безопасней было метать громы и молнии в адрес Второго Интернационала, на руках которого кровь миллионов убитых и покалеченных в мировой войне, сломанные судьбы революционеров, томящихся в буржуазных застенках, и т. д. Так выглядело прощальное письмо делегации Коминтерна на берлинской встрече, написанное, очевидно, Радеком, и обращенное к лейбористам. Срыв всемирного рабочего конгресса поставил на кон судьбу 47 эсеров, обвиненных на московском процессе в преступлениях, за которые им грозила смертная казнь. «Головы подсудимых для вас — не более чем разменная момента, звоном которой вы закрываете глаза политических детей на свой собственный постыдный союз с буржуазией»[444]. Полемика подобного уровня не оставляла надежд на то, что рациональные доводы сторонников тактики единого рабочего фронта заглушат треск ее пропагандистской упаковки.
Оставив борьбу за единство рабочих организаций, Радек моментально переключился на работу, которую вел с лета 1921 года и которую на какое-то время отставил на второй план — завязывание деловых контактов с военной и политической элитой Веймарской республики. Фактически это было второе издание «моабитского салона», правда, на сей раз Радек находился на свободе и выступал в роли не столько члена тайной организации революционеров, сколько представителя великой державы, пытавшейся вернуть себе законное место в европейском концерте.
Его цинизм и хладнокровие, равно как и способность в нужный момент снять идеологические шоры и называть вещи своими именами, пришлись ко двору немецким генералам, которые мечтали о реванше за поражение в Первой мировой войне, но не решались открыто разорвать Версальский договор, запрещавший Германии иметь военную индустрию и современную армию с танками и авиацией. И то, и другое можно было получить, наладив сотрудничество с другим «парием Версаля» — Советской Россией[445]. Для Москвы же не было ничего более желанного, чем клин, вбитый между вчерашними врагами. На марксистско-коминтерновском новоязе это называлось «использованием межимпериалистических противоречий», и Радек в данных вопросах неоднократно проявлял свои недюжинные способности.
Уже в августе 1921 года вопрос о подписании тайного договора с германскими военно-промышленными кругами был согласован, и он информировал Кремль (стиль нашего героя все еще выдавал в нем иностранца и неофита): «Если цель наша — иметь дело с германским консорциумом, дабы воспользоваться им против антантовского и не допустить создания монопольного положения антантовского капитала — будет наперед уничтожена, то положение наше будет более затруднительное. Военные круги боятся этого, ибо это означает, что они будут отшиты от дела и никакая военная индустрия не будет создана… Принимая предложение Коппа[446], Политбюро руководствовалось двумя моментами: стремлением создать конкуренцию трестов, второе — поддержать в Германии клику, так или иначе враждебно настроенную по отношению к Антанте»[447].

Своим соратникам К. Радек казался «летучим голландцем», коммивояжером мировой революции пролетариата
Шарж В. Дени
1922
[Из открытых источников]
Как видно из приведенной цитаты, в общении со «своими» наш герой прекрасно обходился и без лексикона классовой борьбы. В тот же день 10 мая 1922 года, когда Радек сообщал в Коминтерн о перспективе созыва «девятки», он в совершенно ином ключе доносил до руководителей Советской России свои мысли об угрозе новой интервенции, если международная конференция будет сорвана. Он изложил им позицию руководства рейхсвера, которое «боится, что в случае срыва в Генуе мы впутаемся в войну с Польшей, из которой поляки выйдут победителями, ибо имеют теперь громадный материальный интерес»[448]. Можно не сомневаться в том, что подобные предупреждения побуждали советское правительство к особой осторожности на международной арене, хотя делал их человек, отвечавший за продвижение вперед мировой революции.
Эмиссар Коминтерна проявлял недюжинную работоспособность, справляясь с растущим потоком поручений из Москвы. После просьбы выступить на съезде компартии Норвегии он не без кокетства заявил: «Мне уж так надоела заграница, что если меня принудите туда ехать, то решусь родить ребенка, дабы отказаться от поездки»[449]. Радека хорошо знали на Западе, он часто выступал в роли посла по особым поручениям, формально не имевшего отношения к внешнеполитическому аппарату Советской России. Это развязывало ему руки, а еще больше — язык. Впрочем, и высокопоставленные западные дипломаты, и лидеры социалистических партий успели привыкнуть к enfante terrible с всклокоченной шевелюрой и неизменной трубкой во рту.
Его карикатурный образ с трудом вписывался в масштаб переговоров, в которых Радек принимал самое активное участие, не особо утруждая себя соблюдением дипломатического этикета. Так, во время бесед с немецкими промышленниками он откровенно шантажировал их тем, что Советская Россия может получить займ и от держав Антанты: «Я им заявил, что такая мелочь, как 50 или 60 миллионов золотых марок… не может повлиять на нашу политическую позицию, что они заинтересованы в том, чтобы дать нам этот заем, ибо, когда капиталисты других стран, более сильных, начнут работать с Россией, то для немцев может оказаться [там] мало места»[450].
Любитель порассуждать о «достоевщине», Радек в данном случае напоминал не Карамазова, а Хлестакова. Но даже если убрать из его донесений в Москву очевидную браваду, несомненно то, что в 1921–1922 годах он играл существенную роль в процессе восстановления советско-германских отношений. Радек лоббировал и приветствовал назначение Мальцана, с которым был в хороших отношениях, на пост главы «русского отдела» германского МИД[451]. Неформальные контакты с представителями военной и предпринимательской элиты в условиях «чехарды кабинетов» Веймарской республики делали его неотъемлемым шарниром при налаживании деловых контактов двух стран. Весной 1922 года он стоял у истоков их военного сотрудничества, в рамках которого в России появились авиазаводы и военные полигоны для тайного перевооружения рейхсвера[452]. Неоспоримо участие Радека в подготовке и заключении Рапалльского договора 16 апреля 1922 года[453].
Иностранные наблюдатели относили Радека к числу «германофилов» в правящих кругах Советской России[454]. Но прежде всего он оставался самим собой. Его неосторожные высказывания в прессе постоянно вызывали протесты иностранных держав, которые доставляли не только самому Радеку, но и его покровителям в Кремле явное удовольствие. На любой полемический выпад в советской прессе, направленный против правящих кругов той или иной страны, нарком Чичерин с чистой совестью мог заявить, что это «частное мнение независимого журналиста». Накануне Генуэзской конференции впервые в советской истории произошло сближение внешнеполитической и коминтерновской линии, которые до того находились в состоянии пульсирующего конфликта[455]. Это обстоятельство в значительной мере расширило поле маневра для Радека, который в контактах с военными выступал как Константин Ремер, а в коммунистической прессе фигурировал под именем Карла Бремера.
Новую попытку установить единый рабочий фронт, на сей раз в национальном масштабе, который Радек считал решающим, стимулировало убийство правыми радикалами министра иностранных дел Вальтера Ратенау. Социалистические партии и профсоюзы подписали 27 июня 1922 года соглашение о единстве действий, в рамках которого смогли договориться о проведении общих демонстраций и политических стачек в защиту Веймарской республики. В Берлине в день похорон Ратенау не работало ни одно предприятие, на улицы вышли, по разным оценкам, от 600 тысяч до 800 тысяч демонстрантов.

В борьбе за лидерство в Коминтерне К. Радек опирался на поддержку лидеров германской компартии, которых считал «своими кадрами»
Письмо К. Б. Радека Г. Е. Зиновьеву
4 июля 1922
[РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 156. Д. 51. Л. 4]
Вернувшись под опеку Радека, который блокировал любое проявление левацких тенденций, Правление КПГ летом — осенью 1922 года сделало еще один важный шаг к расширительному толкованию единого рабочего фронта. По итогам переговоров с Кларой Цеткин, Брандлером и Эберлейном, которые состоялись в начале июля в Москве, Радек предложил «начать уже пропагандистски-агитационно выдвигать лозунг рабочего правительства, но не ставить его ультимативно социал-демократам»[456], т. е. использовать пока только как инструмент для подталкивания влево представителей СДПГ в земельных правительствах.


«Очень скучно сидеть в Европах». Отчет Радека об участии в Гаагском конгрессе лидеров социал-демократических партий и профсоюзов
17 декабря 1922
[РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 156. Д. 51. Л. 7–10]
Полигоном для апробирования идеи формирования правительства из рабочих партий стала Саксония, где у социалистов традиционно имелись сильные позиции. Местная организация КПГ на первых порах поставила перед Правлением партии вопрос о поддержке саксонского правительства, состоящего из социал-демократов, без участия в нем самом. Выборы 5 ноября 1922 года усилили позиции фракций СДПГ и КПГ в ландтаге Саксонии, две партии получили 51 депутатский мандат из 96[457]. Впервые коминтерновская идея образования правительства «по ту сторону от буржуазии» с соблюдением всех правил парламентской демократии получила шанс своего практического воплощения.
В самом конце 1922 года, который он практически полностью провел за рубежом, Радек участвовал в Европейском антивоенном конгрессе в Гааге. Его организовало Амстердамское объединение профсоюзов, находившееся в орбите Второго Интернационала. Несмотря на то, что в этой сфере открывалась благоприятная перспектива совместных действий, конкретных договоренностей так и не было достигнуто. Радек, с одной стороны, высказывал крамольную мысль о том, что раскол профсоюзов по партийному признаку привел к падению их влияния[458]. С другой, пытался уложить объяснение этого факта в прокрустово ложе классового анализа: реформисты «убеждены, что период революции окончен, что Советская Россия поворачивает направо и что РКП повернет направо. Так же, как Ллойд Джордж надеялся ускорить эволюцию Советской России допущением ее в так называемую семью наций… так же они надеются способствовать поправению русских рабочих, допуская их на международные съезды»[459].
Когда стало ясно, что поворот России к нэпу не привел к термидорианскому перерождению или хотя бы к «поправению» большевистского режима, на Западе «наступила полоса некоторого преходящего охлаждения к русскому вопросу», — констатировал Радек[460] в одной из своих аналитических записок. В отличие от руководства Наркоминдела он давал скорее пессимистичную оценку расчетам на возобновление экономического сотрудничества новой России и остальных европейских держав, даже если не принимать в расчет политические риски, иностранный капитал вряд ли будет взращивать себе опасного конкурента, да и не обладает он в условиях послевоенного экономического кризиса свободными миллиардами.
Радек, в отличие от граждан Советской России, не имевших реального представления о положении дел в мире и продолжавших жить в условиях пропагандистского ожидания близкой мировой революции, постоянно просился на свою новую родину. «Очень скучно сидеть в Европах», где ничего не происходит, сообщал он в том же письме. События наступавшего года вскоре убедят его в обратном. Пока же, коротая дни в Берлине перед тем, как выехать в Норвегию, Радек имел возможность поразмыслить о новых угрозах, которые несла с собой послереволюционная эпоха.
Для него прошедшие годы стали крахом надежд не на мировую революцию, а на реформы, завоеванные демократическим путем. 23 декабря 1922 года Радек писал Зиновьеву, что немецкая социал-демократия, уступившая лидерство буржуазным партиям, вполне мертва, «в связи с этим я считаю опасность фашизма в Германии совершенно реальной». Он справедливо отметил, что нацисты обратили свое внимание на рабочий класс, демонстрируя среди прочего и свое пролетарское происхождение («глава баварских фашистов Киттлер — бывший рабочий маляр», — продолжал Радек, издеваясь над художественными поисками раннего Гитлера[461]).
Прошедший год вымотал посланца Коминтерна и неформального дипломата, жаловавшегося в Москву: «…я не только не отдохнул, но еще и обалдел, и когда вернусь, не будете иметь много пользы от моего трупа»[462]. Впрочем, с трупом пришлось повременить — на следующий день после написания этих строк Франция и Бельгия оккупировали Рурский бассейн под предлогом того, что Германия отказывается выплачивать возложенные на нее репарации. Радеку пришлось оставить мечты о том, что съезд КПГ, который был запланирован на 28 января 1923 года, сможет состояться без него[463]. Главный экспериментатор на немецком полигоне мировой революции, он так и не смог покинуть ее передовых рубежей.
А ведь еще в первые дни нового года казалось, что поверженная Германия отходит на второй план среди беспокойных чад Версальской системы. Исполком Коминтерна на своем заседании 3 января 1923 года признал, что алгоритм дальнейших событий в Европе задан победой партии Муссолини в Италии[464], которая рано или поздно найдет свое повторение и в других странах. В русле единого рабочего фронта ИККИ принял решение о создании международного Фонда борьбы против фашизма, предложив Лондонскому и Амстердамскому Интернационалам разработать совместную программу антифашистских действий.
Как и другие политические силы, Коммунистический Интернационал ощупью двигался к пониманию сущности такого политического феномена, как фашизм, соединявшего в своей пропаганде антикапиталистическую риторику и крайний национализм, граничивший с шовинизмом. В 1923 году «рабочий маляр Киттлер» впервые прогремит на всю Германию, хотя его «пивной путч» окажется жалкой копией похода на Рим Бенито Муссолини. Трудно обвинять политических деятелей прошлого в том, что они не обладали даром предвидения. Пройдет еще десять лет, и Германия погрузится в пучину нацистского варварства, заставив Коминтерн отодвинуть в сторону свой курс на захват власти коммунистами.

Рабочие оккупированного Францией Рура ждут помощи от своих русских братьев
Плакат
1923
[Из открытых источников]
2.15. Оккупация Рура и реакция Коминтерна
11 января 1923 года, когда истек срок ультиматума с требованием немедленного погашения долга по репарациям, который был предъявлен германскому правительству державами Антанты, французские и бельгийские войска начали оккупацию Рурского бассейна. Там находился главный центр угледобычи и металлургии страны, билось ее «пролетарское сердце», как писала рабочая пресса. В Берлине разразился острый внутриполитический кризис. «Техническое правительство» Вильгельма Куно, начавшее свою работу в ноябре предшествующего года, продолжало делать ставку на пассивное сопротивление планам Антанты по выжиманию из Германии репараций. Чтобы покрыть выпадавшие из-за потери Рура доходы бюджета и не позволить оккупантам выкачивать оттуда репарации в натуральной форме, Куно провозгласил политику пассивного сопротивления. Шахтерам и металлургам, чиновникам и учителям продолжали выплачивать зарплату, если они саботировали распоряжения оккупационной администрации. Для того, чтобы обеспечить финансирование этой тактики, на полную мощь был включен печатный станок, и Германия погрузилась в период галопирующей инфляции.
Стоимость немецкой марки, курс которой к началу оккупации Рура держался в районе 20 тысяч за доллар, в мае упала вдвое. После этого национальная валюта перешла в состояние свободного падения, и в середине августа за один доллар (обменные пункты возникали, как грибы после дождя, в любой подходящей будке каждого берлинского парка, вспоминали жившие в Берлине русские эмигранты) давали уже 3 млн марок. Крах гордившейся своей прочностью «рейхсмарки» в повседневной жизни каждого немца был не меньшим унижением, чем военное поражение 1918 года и Версальский диктат.
Тактика единого рабочего фронта в этих условиях могла бы получить новое, «национальное» измерение. КПГ уже 10 января, т. е. до начала перехода франко-бельгийских войск через Рейн, призвала к всеобщей стачке, но ее проигнорировали. Газета «Роте Фане» накануне оккупации продолжала выдавать стандартные лозунги: только рабочее правительство сможет отстоять национальные интересы Германии, а это будет означать «конец буржуазной германской нации как инструмента господства и эксплуатации»[465]. Для коммунистов совершенно немыслимо было пойти на мировую с правящими кругами Германии. В то же время объявление нейтралитета в конфликте германских и французских империалистов угрожало упреками в предательстве национальных интересов. В ожидании руководящих указаний Москвы руководство КПГ занималось агитационной гимнастикой, осваивая шпагат между классовой линией и национальными интересами.
Мы присоединяемся к сопротивлению рабочих, которые отказываются отгружать уголь французам, но это не означает для нас единства с германскими империалистами, утверждала партийная пресса. В ответ на активизацию правых радикалов, которые устраивали подрывы железных дорог, делали несудоходными реки и каналы, коммунисты усилили антифашистскую агитацию, предлагая создавать рабочие отряды самообороны. Ряд земельных организаций СДПГ, где доминировали левые элементы (Саксония, Тюрингия), поддержали эту инициативу.
Внимание Исполкома Коминтерна сразу же сосредоточилось на ситуации в этой стране, которая летом 1923 года стала трактоваться как революционная. Естественно, Карл Радек, главный эксперт РКП(б) по германским вопросам, немедленно направился в Берлин, так и не успев ни написать роман о встрече трех Интернационалов, ни «родить ребенка», чтобы получить по месту основной работы декретный отпуск. 16 января 1923 года ИККИ и Профинтерн обратились с призывом к европейской стачке в ответ на оккупацию Рура, предложив для ее подготовки созвать в Берлине конференцию представителей трех политических и двух профсоюзных Интернационалов. Радек быстро охладил пыл коминтерновцев, веривших в идеалы пролетарского интернационализма: «дело в полной безнадежности. Бельгийские партии за поддержку оккупации»[466].


Радек был посвящен в детали секретного сотрудничества Советской России с германским рейхсвером, он передавал руководству большевистской партии секретную информацию о реакции Берлина на оккупацию Рура
Письмо К. Б. Радека Сталину и другим членам Политбюро
15 января 1923
[РГАСПИ. Ф. 159. Оп. 2. Д. 34. Л. 1–3]
Руководители Советской России избегали публичных заявлений в пользу Германии, считая, что «нам ни к чему связывать себя конкретными обещаниями» и тем самым провоцировать Польшу[467]. Для них ключевым фактором являлось сохранение советско-германского союза как фактора, дестабилизирующего Версальскую систему в целом. Параллельно следовало готовиться к новому вооруженному конфликту на западных границах Советского Союза. В таком духе было выдержано постановление Политбюро от 18 января 1923 года, посвященное внешнеполитическим вопросам[468].
Особую тревогу в Москве вызывали планы Польши по вторжению в Германию с востока. Сразу же по прибытии в Берлин Радек вместе с полпредом Крестинским был принят генералом Сектом, который являлся фактическим главой рейхсвера. В центре внимания на переговорах находился вопрос о скорейшем налаживании сотрудничества военных ведомств двух стран[469].
В тот же день он написал пространное письмо Сталину, подчеркнув двойственность своего положения, связанного с необходимостью сочетать дипломатию и революционную работу. КПГ — «принципиальная противница Версаля, принуждена говорить: господа, платите», обращаясь к собственной буржуазии. Таким образом, партия «играет роль фактора против обострения внешнеполитического конфликта. Если же принять в учет хотя бы малейшую возможность, что мы будем втянуты, то она с точки зрения революционной не должна идти чересчур далеко в своем пацифизме. Положение здесь очень сложно специально для меня. Я не могу с ними [руководством КПГ. — А. В.] говорить начистоту, не зная, не разболтают ли они, и поэтому лучше, чтобы по крайней мере до выяснения нашей позиции меня здесь не было»[470].


Партийное руководство немедленно отреагировало на тревожные сообщения К. Б. Радека из Берлина
Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) о Польше
18 января 1923
[РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 163. Д. 313. Л. 6–6 об.]
Итак, до оформления новой линии РКП(б) и Коминтерна в германском вопросе Радек решил вообще не встречаться с лидерами компартии, которые именно от него ждали руководящих указаний. Однако не в его характере было пассивное выжидание. Ровно через неделю, 22 января 1923 года, он объявил Сталину, что пытается побудить германскую компартию к активным действиям в Руре, пусть даже это будет выглядеть как поддержка национальной буржуазии. Главным внешним врагом является французский империализм, главным внутренним — правительственная коалиция буржуазных партий. Упражняясь в агитационной гимнастике, он предложил оригинальный лозунг, который в его собственном переводе выглядел так: «Надо бить Пуанкарэ над Рурой, а Куно над Шпревой»[471]. В тот же день этот лозунг появился в газетах немецких коммунистов.
При этом Радек отказывался брать на себя ответственность за выработку конкретной линии действий, подчеркнув в переписке с генеральным секретарем ЦК РКП(б): я готов остаться до партийного съезда, но «выступать на нем не буду, считая невозможным не говорить ничего и считая невозможным говорить то, что надо», т. е. отделываться ничего не значившими фразами. Еще не представляя себе расстановку сил в Политбюро после отхода от дел Ленина, он одновременно посылал и официальные доклады Сталину, и неофициальные письма Троцкому. Первый был занят внутренней политикой, но второй проявил живой интерес к событиям в Германии.


В приватной переписке два партийных лидера обсуждали ключевые внешнеполитические проблемы Советской России
Письмо Л. Д. Троцкого К. Б. Радеку
28 января 1923
[РГАСПИ. Ф. 326. Оп. 2. Д. 21. Л. 16–17]
Поддержав «речной» лозунг, Троцкий показал себя не меньшим государственником, чем Ленин в последние годы своей жизни, поставив во главу угла интересы Советской России: «Мы против войны, поэтому делайте все возможное, чтобы отговорить немецких партнеров от авантюр военного конфликта». Но при защите своих интересов германское правительство найдет в России верного союзника: «только такая постановка вопроса создает благоприятную почву для агитации в Германии за рабочее правительство под лозунгом обороны страны»[472].
На первых порах Радек сдерживал свое обещание и даже не появился на съезде КПГ, открывшемся в Лейпциге 28 января 1923 года. Накануне он телеграфировал через советское полпредство в Москву: «Бухарин просит меня ждать его, не указывая срока прибытия. Шпики следуют за мной, в лучшем случае могу уехать в горы. Коминтерн поручает мне выступить на съезде компартии, считаем с Крестинским [мое] открытое присутствие невозможным без приказа ЦК РКП»[473].
Это послание лишний раз подтверждает, насколько несогласованными были действия в треугольнике Коминтерн — НКИД — ЦК РКП(б), внутри которого оказался Радек. В то время как Исполком требовал решительных действий по восстановлению «гражданского мира» среди немецких коммунистов, дипломаты считали, что до выяснения масштабов международного кризиса, связанного с оккупацией Рура, лучше избегать какой-либо активности. В конечном счете Зиновьев уступил, разрешив Радеку вернуться в Москву[474].
Бухарин, которого на съезде КПГ ждали в качестве официального гостя из России, так и не смог выехать в Германию. Без участия авторитетных русских товарищей дебаты на съезде вышли из-под контроля президиума, зажигательные речи «берлинцев», т. е. левых оппозиционеров, определяли настроение значительной части делегатов. Их активность подстегивало и то, что по инициативе Зиновьева им следовало выделить два места в будущем составе Правления КПГ[475]. «Курс концентрации» партийных сил, одобренный под нажимом Москвы после Третьего конгресса Коминтерна, трещал по всем швам. Получив 31 января сигнал бедствия от Брандлера и Цеткин, Радек примчался в Лейпциг и принялся наводить порядок в партийных рядах. Позже он возложил ответственность за разгоревшийся конфликт на обе стороны: Правление игнорировало берлинцев, а те саботировали его решения. По оценкам Радека, к этому моменту за левыми шли уже 2/5 делегатов[476]. Его беседы и наставления в кулуарах съезда привели к тому, что до открытого раскола КПГ в Лейпциге дело не дошло.
Через неделю после завершения съезда Радек уже солировал на обсуждении немецкого вопроса в Москве, на заседании Исполкома Коминтерна. Докладчик подчеркнул, что КПГ в ее нынешнем состоянии практически недееспособна. «Если мы в качестве лозунга выдвигаем революционный маневр и при этом видим, что девять десятых партийцев не признают решений штаба, руководящего маневром, то при его реализации это приведет к тому, что в девяти десятых случаев он закончится поражением»[477]. Компартия ведет политику, являющуюся зеркальным отражением социал-демократической, утверждал Радек: если СДПГ проводит реформы, забывая о конечной цели, то КПГ видит только эту цель, не думая о реформах.
Несмотря на регулярные обещания прекратить дискредитацию Правления КПГ, берлинская оппозиция сплачивала свои ряды и неуклонно увеличивала число своих сторонников. На протяжении предшествующих лет в партию влились бывшие независимцы, а также группы анархистов и синдикалистов, которых отталкивало требование железной дисциплины. Многие из них сохраняли убежденность в том, что дни парламентской демократии сочтены, а единый рабочий фронт — уловка для того, чтобы ускорить ее бесславный конец. Они продолжали верить в чудодейственную силу «русского примера» и всерьез относились к перспективе создания Советской Германии. Чем больше КПГ походила на другие партии Веймарской республики, тем меньше симпатий она вызывала у левых радикалов. Подобные настроения достаточно точно описывал один из их главных лозунгов: «Назад ко Второму конгрессу Коминтерна!»
Не только Радек, но и другие эмиссары Коминтерна рангом пониже, находившиеся в Германии, отмечали весной 1923 го-да, что партия движется к расколу на две секты. Руководство ИККИ стояло перед нелегким выбором: Радек тяготел к поддержке «правых», сторонники Зиновьева покровительствовали берлинцам. На личные симпатии и антипатии функционеров РКП(б), командированных на работу в Коминтерне, начинала накладываться логика внутрипартийной борьбы за ленинское наследство. В конце апреля — начале мая в Москве состоялись переговоры членов Президиума ИККИ и делегации КПГ, в которую входили Брандлер, Бетхер, Герхард, Рут Фишер, Маслов и Тельман.
Взяв бразды правления в свои руки, Зиновьев впоследствии хвалил самого себя: «Исполком в три дня помог разрешить вопросы, которые занимали бы партию в течение трех лет»[478]. Немецкие коммунисты не вошли даже в рабочую комиссию по выработке резолюции, Бухарин заявил, что хватит и личных консультаций с ними. Это вызвало решительные протесты председателя КПГ. За него заступился Радек: «Я понимаю озабоченность Брандлера. Исполком выступает то в роли карающей десницы, то в роли доброго дядюшки из Америки, и из подобных бесед с лидерами партии потом вырастает множество слухов»[479]. Ход переговоров укрепил позиции Радека как куратора КПГ, на его сторону стал склоняться Бухарин, которого все больше раздражала претензия Зиновьева на единоличное руководство коминтерновскими делами.
К услугам набиравшего силу Радека продолжал прибегать и его бывший начальник по НКИД. 14 апреля Чичерин запрашивал у него обвинительные материалы по делу католических священников, суд над которыми завершился смертным приговором К. Р. Будкевичу. Объяснений от советского руководства потребовал германский посол Брокдорф-Ранцау. Чичерин писал: «Приговор составлен настолько неудачно, что побивает и постановление Президиума ВЦИК, и мои заявления, сделанные со слов Троцкого… Абсолютно невозможно без этих материалов вести контркампанию. Нельзя ограничиться окриком: мы-де суверенны и материалов никому не покажем. Все поймут в том смысле, что якобы этих материалов нет»[480].


Доклад К. Радека о своей конспиративной работе в Берлине, направленный Г. Е. Зиновьеву и И. В. Сталину
14 мая 1923
[РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 156. Д. 51. Л. 14–15]
7 мая 1923 года Радек в очередной раз направился в Берлин. Вслед за ним в его адрес полетела телеграмма Президиума ИККИ об организации по всей Европе (предпочтительно перед зданиями английских посольств) митингов протеста в связи с появлением ноты Керзона. В условиях нарастания международной напряженности вновь выросли акции тактики единого рабочего фронта: Радеку было поручено установить контакт с «симпатизирующими нам организациями лейбористской партии и тред-юнионов, выдвинув лозунги с персональным заострением против Керзона и другие элементарные, как то мир и признание Советской России»[481]. Одновременно ему пришлось организовывать демонстрацию немецких коммунистов в момент перевозки тела убитого в Лозанне Воровского из советского полпредства на вокзал для отправки в Москву.
В Берлине в характерной для себя манере Радек провел серию блиц-встреч с каждой из фракций в руководстве КПГ, в ходе которых разъяснил линию Москвы. Не менее характерной была и роль верховного арбитра, которую посланец Коминтерна каждый раз исполнял со все большим удовольствием. «Мне удалось достигнуть согласия Централе [Правления. — А. В.] всеми голосами против Вальхера, который подчиняется, на московский компромисс. Клара больна. Пик в Швеции, но вряд ли посмеют публично оппонировать. С оппозицией имел конференцию. Единодушно приняла московские решения»[482].
Помимо контроля над выполнением февральской резолюции ИККИ о КПГ вернувшийся в Берлин Радек получил задание прощупать почву для восстановления диалога с Амстердамским интернационалом профсоюзов. Момент был крайне благоприятный — в ответ на ультиматум Керзона и убийство советского полпреда Воровского с пацифистскими заявлениями в Великобритании выступили либеральные круги и лейбористы. Радек встречался с лидером Амстердамского интернационала профсоюзов Э. Фимменом накануне его отъезда в Чехословакию на международный конгресс железнодорожников. Тот «обещал делать все для поднятия масс, сгруппировать вокруг себя все живые элементы амстердамцев. Произвел на нас всех впечатление человека, который хочет помочь. Смерть Воровского взбудоражила рабочие массы, затрудняет Керзону работу»[483].
Использование в партийной пропаганде лозунгов защиты отечества сделало КПГ одним из заметных участников внутриполитического процесса. 13 мая партия вывела на митинг против оккупации Рура и угрозы войны в центре Берлина около 100 тысяч своих сторонников. Комментируя этот успех, Радек рекомендовал сохранить акцент на проведение массовых акций, дополнив его точечными кампаниями: «Центр тяжести теперь в том, чтобы создавать рабочие сотни, которые сделают невозможным какое бы то ни было передвижение вооружения в Польшу другим путем, чем через море»[484].
При прямом содействии Радека в Правление КПГ были введены Рут Фишер из Берлина и Эрнст Тельман из Гамбурга, возглавившие в нем левую фракцию. Тактическая уступка Зиновьеву, который после своего «капитулянтства» накануне захвата власти большевиками очень боялся вновь показаться «правым», уже в конце 1923 года обернется для Радека трагическими последствиями: вначале потерей контроля над немецкой партией, а потом и конфликтом со сталинско-зиновьевским большинством в Политбюро ЦК РКП(б). Но еще летом того же года он был уверен, что новый приступ германской революции не за горами, и вот-вот пробьет его звездный час.
2.16. Дискуссия о фашизме и речь о Шлагетере
После начала оккупации Рура германская экономика покатилась в пропасть — национальная валюта обратилась в прах, из-за бешеной инфляции даже крупные предприятия вернулись к прямому продуктообмену. Журналисты заключали пари на дату, когда правительство капитулирует перед ультиматумом Антанты. Радек делал свои собственные ставки. Он согласился с мнением Правления КПГ, что «момент для развертывания движения более удобен после капитуляции, чем перед ней»[485]. В переводе на обыденный язык это означало, что предательство германской буржуазией национальных интересов должно было стать безотказным трамплином для успешной вылазки революционного авангарда.
Однако радикализация политических сил происходила не только на левом фланге. Выступления участников Четвертого конгресса отражают тот шок, который они испытали после того, как бывший социалист Бенито Муссолини обосновался на крайне правом фланге итальянской политической сцены и, организовав печально известный «поход на Рим» осенью 1922 года, без особого труда захватил власть в стране. В своей речи Радек взял на себя роль Кассандры, утверждая, что речь идет не о случайном «вывихе» послевоенной европейской истории, но о массовом движении, которое противостоит марксистской логике исторического прогресса, а значит — является непримиримым врагом всего рабочего движения. «Если наши итальянские товарищи, если социал-демократическая партия Италии не поймет причин этой победы фашизма и причин нашего поражения, то нам предстоит встретиться с эпохой его длительного господства».
Вслед за итальянским фашизмом стала набирать влияние и его немецкая копия — на первых порах казалось, что весьма карикатурная, вспомним хотя бы радековскую характеристику «рабочего маляра Киттлера». Однако оккупация Рура привела к подъему в стране праворадикальных движений, делавших ставку не только на ревизию Версальской системы, но и на разгром социалистических партий. Такие движения, первоначально казавшиеся малозначительными сектами, появлялись, как грибы после дождя. «Вся Европа живет под знаком фашизма», — утверждалось в докладе Брандлера на пленуме ЦК КПГ, состоявшемся 16 мая 1923 года. Ответом на вызов правых радикалов стало образование в Саксонии и Тюрингии отрядов пролетарской самообороны, в которые входили как коммунисты, так и социал-демократы[486]. Они готовились отразить атаку приверженцев Гитлера, если бы те решили повторить «„поход на Рим“ Муссолини», отправив свои вооруженные отряды из Мюнхена в Берлин.
Вопрос о фашистской угрозе стал одним из центральных в ходе работы Третьего расширенного пленума ИККИ, который открылся в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца 12 июня 1923 года. Основной доклад сделала Клара Цеткин, которая рассматривала европейский фашизм как боевой отряд мировой буржуазии, ее последнее средство в борьбе за выживание в новой исторической эпохе. В то же время он был «наказанием пролетариату за то, что тот не развернул шире начатой в России революции»[487]. Признавая, что существенной частью тактики фашистских движений является «белый террор», Цеткин акцентировала внимание участников пленума на другом — на широкой социальной базе, которую сумели мобилизовать в свою поддержку вожди фашизма.
В то время как Цеткин основывалась на анализе режима Муссолини, выступивший после нее Радек сделал акцент на Германии, выбрав совершенно неожиданный для ортодоксального марксиста подход — представив психологический портрет рядового фашиста. Его речь о Шлагетере стала символом рискованного маневра Коминтерна, который так и не был доведен до конца летом 1923 года, но на протяжении последующего столетия неизменно привлекал внимание ученых и публицистов, занимавшихся историей коммунистического движения.

В Рурском бассейне немецкие активисты устраивали акты саботажа, которые не давали французским оккупантам вывозить уголь и лес
Начало 1923
[Из открытых источников]
Лео Шлагетер — фашист и активный участник акций саботажа в Руре, расстрелянный французскими оккупантами, являлся для Радека не просто заблудшей овечкой, прибившейся к чужому стаду. Этот «мужественный солдат контрреволюции заслуживает того, чтобы мы, солдаты революции, мужественно и честно оценили его». Ставя перед правыми радикалами (назвав их «путниками в никуда») вопрос, против кого они хотят бороться — «против капитала Антанты или против русского народа?», Радек фактически предлагал им союз с Советской Россией для «совместного свержения ига антантовского капитала»[488].
Основой для такого союза, к которому неизбежно должны были подключиться и немецкие коммунисты, выступала капитуляция правящих кругов Германии в борьбе за Рур. О том, что в условиях иностранной оккупации экономического сердца страны, когда «Германия грозит превратиться в индустриальную колонию Европы», коммунисты не должны отдавать на откуп правым радикалам национальную идеологию, говорили в партии многие. Речь шла о первой попытке использовать реваншизм и великодержавный национализм, доминировавшие в послевоенном немецком обществе, для того чтобы навязать ему левую повестку дня.
Немецкая историография традиционно проводит параллель между речью о Шлагетере и германской политикой балансирования между Востоком и Западом, получившей название «рапалльской». Однако было бы ошибочным считать, что неожиданный пассаж в речи Радека обслуживал интересы одной лишь внешней политики. В частном разговоре с представителем КПГ при ИККИ Эдвином Гернле Зиновьев подчеркнул, что постоянные указания Радека на национальную повестку дня не являлись экспромтом. «Во-первых, широкие слои рабочего класса разделяют национальные мысли и чувства, во-вторых, колонизация и расчленение Германии в современных условиях является ударом не столько по германской буржуазии, сколько по пролетарской революции»[489].
Сам Радек считал свою речь на пленуме очень важной и просил Брандлера обеспечить ей максимальное освещение в партийной прессе, чтобы вынудить фашистов откликнуться на нее. Он как заклинание повторял идею о необходимости расколоть фашистское движение, оторвать мелкобуржуазную массу от «феодальных и капиталистических вождей»[490]. Несмотря на то, что газеты КПГ предоставили свои страницы для дискуссий с идеологами «консервативной революции», отклик правых радикалов на речь о Шлагетере был минимальным. Фелькишское движение, организация «Оргеш» и нацисты Гитлера мало что понимали в борьбе идей. Радек являлся евреем, и этим было все сказано. Его речь, закрывавшая дебаты по докладу Цеткин, вряд ли была экспромтом. Экспромтом являлось ее публицистическое оформление.
Волна, поднятая речью о Шлагетере на пленуме ИККИ, быстро улеглась, хотя в сентябре 1923 года в ИККИ все еще считали возможным «активный боевой союз с честными фашистами при дальнейшем обострении обстановки» в Германии[491]. Историки справедливо пишут о радековской линии в трактовке такого европейского феномена, как фашизм, подчеркивая ее «социологическую ориентированность»[492]. Однако в том же году наш герой втянется во внутрипартийную борьбу в РКП(б), после поражения в которой его догадки и теоретические размышления, нашедшие на первых порах немало поклонников в европейских компартиях, будут преданы забвению.
2.17. Курс на германский Октябрь
Радек, после завершения Третьего пленума ИККИ оставленный на коминтерновском хозяйстве, с сарказмом писал своим коллегам, отдыхавшим на Северном Кавказе: «Моя речь о Шлагетере прессой истолкована как предложение [фашистам. — А. В.] союза для свержения правительства Куно, так что визу [в Германию. — А. В.] мне вряд ли дадут»[493]. Не он один в то лето мечтал если не оказаться в самой Германии, то как минимум выступить вдохновителем и организатором успешной пролетарской революции в этой стране. Такое развитие событий, как это ни парадоксально, соответствовало интересам каждой из фракций в руководстве большевистской партии, которые готовились к решающему туру борьбы за ленинское наследство. Бухарин и Зиновьев отвечали за ведомства пропаганды и мировой революции, Троцкий мог рассчитывать на то, что станет командующим международной Красной армии. Сталин на первых порах оставался в тени, но и для него появление столь мощного союзника, как Советская Германия, открывало перспективу резкого ускорения социально-экономической модернизации страны.
В высшем эшелоне КПГ ситуация выглядела еще проще: победитель (а в окончательной победе никто не сомневался) должен получить все, а значит, к моменту решающего сражения следовало либо вырвать у конкурентов, либо сохранить в своих руках партийные рычаги. Беседы в Москве за кулисами пленума ИККИ убедили и председателя КПГ Брандлера, и левую оппозицию («берлинцев») в том, что они могут рассчитывать на серьезную материальную и даже военную поддержку Советской России.
12 июля 1923 года в газете «Роте Фане» появилось воззвание КПГ, выдержанное в самом радикальном духе: буржуазная демократия потерпела крах, страна находится накануне фашистского путча, но на вылазки фашистов партия ответит «красным террором». Коммунисты протягивают руку другим рабочим партиям, однако если те откажутся от совместных действий, КПГ пойдет в бой самостоятельно. Через день после появления воззвания Брандлер сообщал в Москву, что его целью является «мобилизация партии во всех сферах для вооруженной борьбы» против государственного переворота, который готовят фашисты[494]. Он считал, что немецким коммунистам нужен ощутимый толчок и мощный сигнал для того, чтобы выйти из состояния летаргии и пассивности. Таким сигналом должны были стать массовые рабочие демонстрации в антифашистский день, который Правление КПГ назначило на воскресенье 29 июля.
Радек немедленно охладил пыл Брандлера, высказавшись за максимальную осторожность: «Я боюсь, что мы попадем в ловушку. Мы плохо вооружены или вообще без оружия. Фашисты вооружены в десять раз лучше и имеют хорошие штурмовые отряды. Если они захотят, то 29 июля устроят нам кровавую головомойку. Если правительство запретит демонстрацию 29-го, а мы тем не менее попытаемся провести ее, мы окажемся между двух огней… Выдвиньте лозунг — никаких провокаций, твердая, спокойная демонстрация; ежедневно на первых страницах газет — большие заголовки в этом духе, назначьте ответственных людей за проведение демонстрации»[495]. Поэтому антифашистский день, задуманный коммунистами, не должен вылиться в вооруженные столкновения с реакцией или полицией.

«Не может быть двух руководящих центров — один в Москве, другой на Кавказе — если не хотеть свести с ума берлинцев»
Телеграмма К. Б. Радека в Кисловодск Г. Е. Зиновьеву, Н. И. Бухарину и К. Цеткин
25 июля 1923
[РГАСПИ. Ф. 326. Оп. 2. Д. 21. Л. 31]
Находившиеся на Кавказе Зиновьев и Бухарин сделали из текста воззвания и сопровождавших его писем Брандлера прямо противоположные выводы. Они направили немецким коммунистам приветствие по случаю подготовки антифашистского дня, считая, что массовые демонстрации, особенно если они будут сопровождаться столкновениями с полицией и человеческими жертвами, позволят накалить политическую атмосферу в Германии. Отныне КПГ должна была наносить главный удар по националистам, чтобы завоевать на свою сторону социал-демократических рабочих. Тем самым дезавуировалась тактика национального фронта, предложенная Радеком, что и вызвало столь резкую реакцию последнего: «Не может быть двух руководящих центров — один в Москве, другой на Кавказе — если не хотеть свести с ума берлинцев»[496].


Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) о разногласиях лидеров Коминтерна в оценке положения в Германии
27 июля 1923
[РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 163. Д. 350. Л. 81–81 об.]
Телеграмма Бухарина и Зиновьева вообще не была отправлена в Берлин. Радек добился от Политбюро (фактически от Сталина) ее задержания до выяснения сути разногласий между Москвой и Кисловодском[497].
От имени Президиума ИККИ он послал в Правление КПГ менее радикальные директивы: сосредоточиться на идейном разоблачении фашизма, подталкивать саксонское правительство Цейгнера к радикальным действиям, но ни в коем случае не разрывать с ним. «Идя на коалицию с буржуазными партиями, мы, разумеется, не можем рассчитывать, что такая коалиция будет игрушкой в наших руках; но горе нам, если мы станем игрушкой в руках социал-демократии»[498].
Параллельно Радек отправил в Кисловодск достаточно бесцеремонное письмо, в котором оправдывал свое самоуправство. Он объяснял свой протест против воззвания КПГ от 12 июля тем, что «партия своим огульным призывом к самостоятельной решительной борьбе с фашизмом сплачивает мелкобуржуазные элементы с элементами феодальными и капиталистическими… не ведет дальше линии, выразившейся с моей речи о Шлагетере, которую ЦК партии приветствовал». С формальной точки зрения отправка кисловодской телеграммы дезавуировала бы решение Президиума — высшего органа Коминтерна в перерывах между заседаниями Исполкома. И наконец, двум членам высшего руководства РКП(б) было направлено требование, которое звучало как удар по их самолюбию: «Откажитесь от частной корреспонденции с партиями во время отдыха»[499].
Возмущение Зиновьева и Бухарина не знало границ, они потребовали немедленного созыва Политбюро и выразили готовность срочно выехать в Москву[500]. В переписке со Сталиным Зиновьев всячески дискредитировал «болтунишку Радека», который пытается перетащить на нашу сторону фашистов вместо того, чтобы готовиться к решительному столкновению с ними. По мнению Председателя ИККИ, следовало занять жесткую позицию и в Саксонии: «абсолютно необходимы большая независимость, большая самостоятельность по отношению к правительству Цейгнера. Ни в коем случае не прощать ни одного выпада, не забывать их. В случае необходимости вести дело к разрыву»[501]. Следует иметь в виду, что в ходе неформальных совещаний в Кисловодске члены руководства РКП(б) обсуждали меры нейтрализации Троцкого, и демарш Радека (которого не без оснований считали его приверженцем) попал на почву, обильно пропитанную клинической подозрительностью Зиновьева.
В Германии большинство партийных организаций поддержало осторожную линию Москвы, которую приняло Правление КПГ. Антифашистские демонстрации в воскресенье 29 июля собрали под свои знамена десятки тысяч левых активистов по всей стране и обошлись без провокаций со стороны радикалов. Радек не удержался от похвал в адрес дисциплинированных немецких пролетариев, призвав их сохранять выдержку до решающей битвы, которая уже не за горами[502].
Успех антифашистского дня вызвал неоправданную эйфорию среди немецких коммунистов. 5–6 августа состоялся пленум Правления КПГ, в ходе которого левая оппозиция заявила, что требование рабочего правительства самим ходом событий снято с повестки дня, и надо готовиться к боям за диктатуру пролетариата[503]. Брандлер отбросил в сторону всякую осторожность и стал транслировать радикальные лозунги своих недавних оппонентов. Резолюция пленума состояла из сплошных противоречий, говоря о необходимости «скорейшего установления единого фронта для завоевания политической власти».
10 августа 1923 года правительство перешло в контрнаступление и запретило выход коммунистических газет, однако такие решения только подливали масла в огонь, обостряя противостояние политической элиты и социальных низов. В этот день Брандлер писал в Москву: напряжение нарастает по всей стране, партия готова к решающей схватке за власть[504]. Тогда же съезд фабзавкомов Берлина по инициативе КПГ принял решение о трехдневной всеобщей стачке. На следующий день многие предприятия столицы остановили свою работу, в том числе и типографии, в которых печатали стремительно дешевевшие деньги. Среди политических лозунгов доминировали требования роспуска рейхстага и образования рабочего правительства. В Гамбурге и других крупных городах рабочие демонстрации грозили перерасти в голодные бунты, самое активное участие в них принимали женщины, устраивавшие перепалки и потасовки с полицейскими.
На второй день стачки под угрозой вотума недоверия в рейхстаге состоялась давно ожидаемая отставка кабинета Куно. Предложение о голосовании было внесено фракцией КПГ, и социал-демократы отказались поддерживать правительство, лишившееся последнего доверия. Отставка охладила пыл рабочих, сказалось и то, что предприниматели, увидев масштаб социальных протестов, пошли на серьезные уступки. Вместо ничего не стоивших денег рабочим на некоторых предприятиях стали выдавать продовольственные пакеты.
Коммунисты имели все основания записать смену кабинета министров на собственный счет, хотя сама по себе она не приближала перспективы решающих боев. Следовало искать новые пути закрепления авторитета компартии, который были вынуждены признать и ее политические конкуренты. КПГ сделала шаг навстречу потенциальным союзникам, поддержав решение о прекращении стачки, принятое берлинскими фабзавкомами 14 августа 1923 года[505].
Кризис завершился формированием нового правительства, которое возглавил Густав Штреземан. Однако инерцию завышенных ожиданий Москвы уже невозможно было остановить. Не решаясь и дальше единолично определять курс германской компартии, Радек телеграммой вызвал Зиновьева в Москву[506]. Казалось бы, перед лицом германской революции недавние склоки и недоразумения должны быть забыты. Российские большевики оказались в шаге от конечной цели, ради которой они захватили власть в октябре 1917 года, — дождаться пролетарского переворота в ключевых европейских странах.
После возвращения Зиновьева и Бухарина в Москву соотношение радикалов и умеренных в Президиуме Коминтерна резко изменилось. На своем заседании 22 августа 1923 года Политбюро приняло тезисы о всемерной поддержке германской революции, и Радек засобирался в Берлин, хотя ранее против его приезда возражал советский полпред Крестинский, мотивируя это невозможностью обеспечить его безопасность[507]. Вынужденный остаться в Москве и отодвинутый от центра принятия решений, Радек резко полевел и обнаружил в Германии четкую альтернативу: либо мы, либо фашисты возьмут власть в свои руки. «И мы решили взять ее»[508].
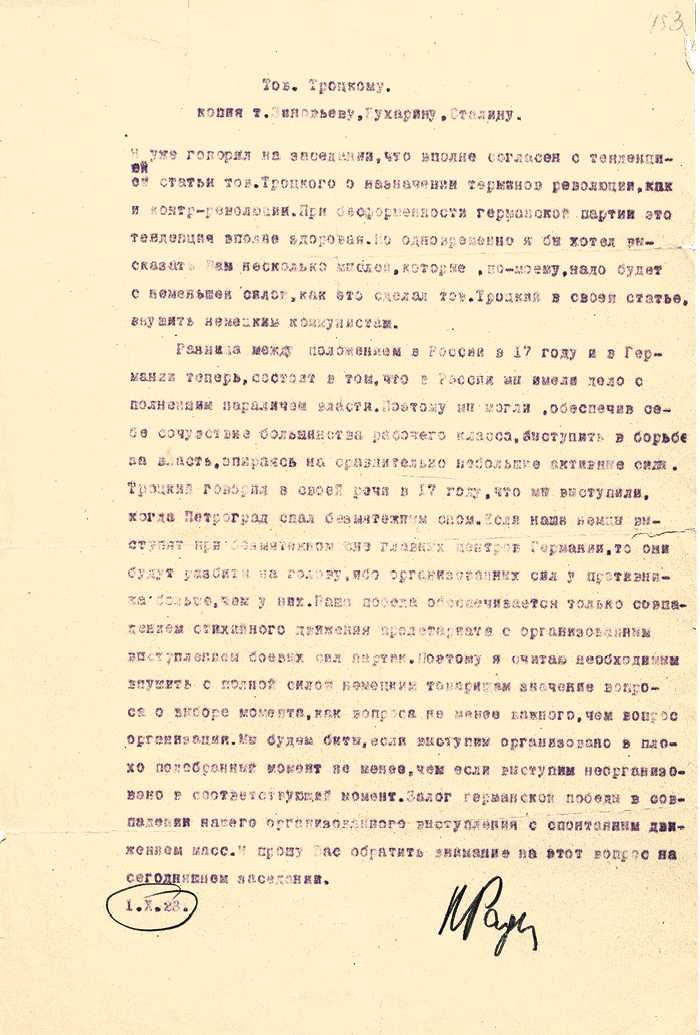
Письмо К. Б. Радека Л. Д. Троцкому с согласием о необходимости назначить дату германской революции
1 октября 1923
[РГАСПИ. Ф. 326. Оп. 2. Д. 1. Л. 153]
Он начал планировать действия КПГ уже на исходе еще не состоявшейся революции: «Мы оцениваем положение в Германии так, что вопрос борьбы за власть там подходит к решительной стадии, что даже если бы немецкая компартия не хотела революции, она идет, и если бы партия попыталась уклониться от боя, тогда не только наверняка будет разгромлен рабочий класс, но и партия. Ей придется сказать себе: в бою отступления нет, сражение будет в неслыханно тяжелых условиях. Надо теперь, кроме прочих вещей, чтобы она ориентировалась, что будет делать после взятия власти»[509]. Радек просил В. В. Куйбышева подготовить очерк развития германского земледелия после 1918 года, чтобы коммунисты могли разработать собственную аграрную программу.
В рамках разделения труда в комиссии, которая курировала подготовку германского Октября, Радеку была поручена пропаганда и агитация. Осенью 1923 года в Москве начал выходить специальный «Бюллетень Коммунистического Интернационала по Германии», который рассылался по советским учреждениям, парткомам и профсоюзным ячейкам. Его первый номер открывался статьей Радека о капитуляции германской буржуазии перед Францией и подготовке гражданской войны. Материалы бюллетеня были выдержаны в духе, характерном для революционной эпохи, — желаемое выдавалось за действительное. Среди прочего воспевались боевые органы пролетариата от рабочих сотен до комитетов рабочего контроля, которые едва ли не заправляют всем в стране: так, «контрольные комиссии принудили кулаков-крестьян снабжать города молоком». Напротив, баварские социал-демократы выступали на страницах бюллетеня в роли создателей первых фашистских отрядов в Германии[510].


Постановление Политбюро ЦК РКП(б) с инструкцией эмиссарам, отправляющимся в Германию для руководства вооруженным восстанием пролетариата
4 октября 1923
[РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 166. Д. 12. Л. 1–3]
Не могли остаться в стороне от настроений решающего штурма, нагнетаемых советской прессой, и лидеры КПГ, которые прибыли на совещание пяти компартий, посвященное подготовке германского Октября и начавшее свою работу 21 сентября 1923 года. Сообщая о его ходе членам Правления, Брандлер неизменно подчеркивал, что все участники совещания призывают немецкую партию к решительным действиям. В такой обстановке тональность докладов немецких коммунистов о ситуации в стране день ото дня становилась все более резкой, а приводимые ими данные о военно-технической подготовке восстания, накопленных запасах оружия, численности пролетарских дивизий и т. д. — все более фантастическими. Прибыв месяц спустя в Германию, Радек нашел, что средства, выделенные Москвой на вооружение, полностью исчерпаны, а в наличии у партии имеются всего 800 винтовок в Саксонии и 361 в Берлине. «Все, что Брандлер рассказывал в Москве о состоянии вооружения, есть сущий вздор»[511].
После того, как Зиновьев познакомил участников совещания с решениями Политбюро по германскому вопросу, принятыми 4 октября 1923 года[512], его дальнейшая работа потеряла всякий смысл. В постановлении были утверждены конкретные меры по ускорению организационной и технической подготовки захвата власти в Германии, для чего туда должна была отправиться «четверка» партийных лидеров. Две недели спустя Гернле докладывал руководству немецкой компартии: «…после беседы с Зиновьевым сегодня вечером стало ясно, что русские товарищи планируют отправлять принятые между собой решения по Германии напрямую, исключив нас как представителей немецкой партии из этого процесса»[513].
Как это ни печально было признавать откомандированным в Москву функционерам КПГ, отныне коммуникация московского центра и берлинского филиала мировой революции должна была происходить без их участия. На одном конце канала связи находился ЦК РКП(б) и его представители в Исполкоме Коминтерна, на другом — «четверка», готовившаяся к отъезду в Берлин.
Определение ее персонального состава вызвало новый всплеск подковерной борьбы на большевистском Олимпе, ведь речь шла о том, кто возглавит генеральный штаб грядущей германской революции. Немецкие коммунисты, продолжавшие считать Троцкого главным стратегом Красной армии, предлагали его кандидатуру. Председатель Реввоенсовета в тот момент оказался не у дел. Завершение Гражданской войны отодвинуло его ведомство на второй план, германские же события давали Троцкому шанс вернуть себе лидирующие позиции.
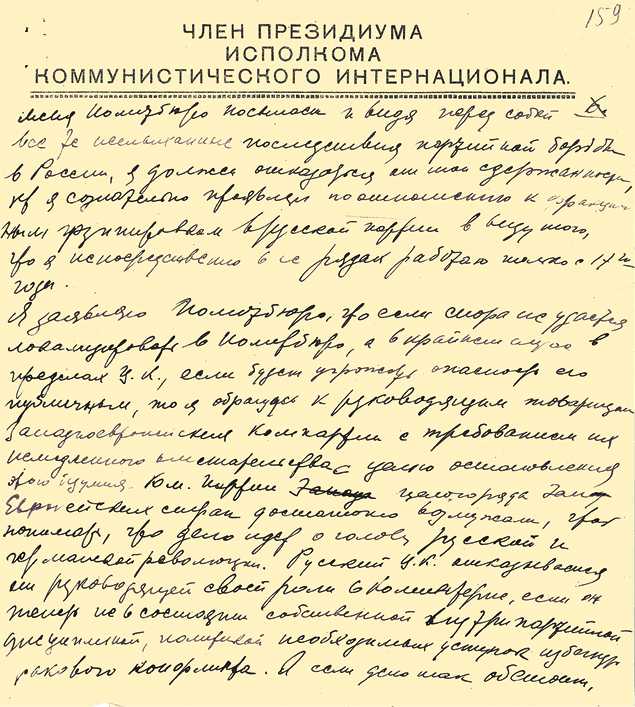
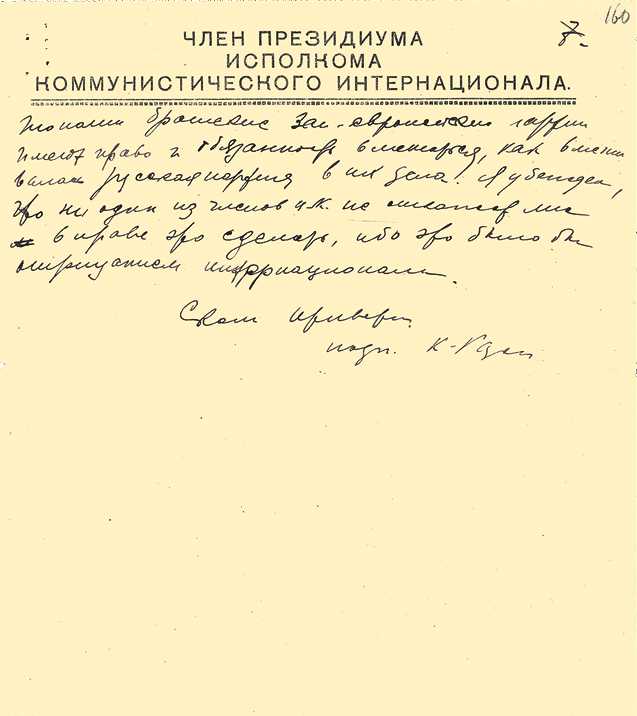
Ультиматум К. Б. Радека, адресованный членам Политбюро: партийный кризис означает смертельный удар по советской власти и германской революции
16 октября 1923
[РГАСПИ. Ф. 326. Оп. 2. Д. 1. Л. 159–160]
Вторым по значению кандидатом на командировку в Германию был руководитель Коминтерна Зиновьев, который рассчитывал на то, что новый виток мировой революции превратит его в главного наследника Ильича. Но против его кандидатуры также нашлись серьезные аргументы. В итоге было принято компромиссное решение: «Политбюро считает, что отправка тт. Троцкого и Зиновьева в Германию абсолютно невозможна в настоящий момент… Возможный арест названных товарищей в Германии принес бы неисчислимый вред международной политике СССР и самой германской революции»[514].
Единственным кандидатом, ценность которого для ее успеха ни у кого не вызывала сомнений, был Карл Радек. После ряда кадровых перестановок вместе с ним в окончательном составе «четверки» оказались заместитель председателя ВСНХ СССР Г. Л. Пятаков, нарком труда В. В. Шмидт и полпред Н. Н. Крестинский. Шмидт был немцем по национальности, но никогда не занимался коминтерновскими делами. Кандидатура хозяйственника Пятакова также не могла вызвать ничего, кроме удивления. Уже находясь в Берлине, тот сообщал о своей беспомощности в германских делах: «…первое время я чувствовал себя как рыба, выброшенная на берег»[515].
Смысл столь необычного решения становится очевидным, если обратить внимание на то, какого масштаба к моменту его принятия достигли разногласия в высшем эшелоне РКП(б). Трое членов «четверки» были самыми известными сторонниками Троцкого. На сентябрьском пленуме ЦК партии состав Реввоенсовета был расширен таким образом, что его Председатель подал прошение об отставке, попросив отправить его в Германию, где он будет полезнее. Вскоре Троцкий перешел в контрнаступление и обратился с письмом в ЦК и ЦКК партии, где не только указал на факты дискредитации его кадров, но и подверг резкой критике весь партийный режим. Образование фракции его сторонников стало делом считанных дней. 15 октября 1923 года появилось обращение 46 известных большевиков, направленное в Политбюро. В нем говорилось о том, что «хозяйственный кризис в Советской России и кризис фракционной диктатуры» подрывает авторитет партии большевиков накануне решающих боев на мировой арене[516]. Одним из подписантов обращения являлся Георгий Пятаков.
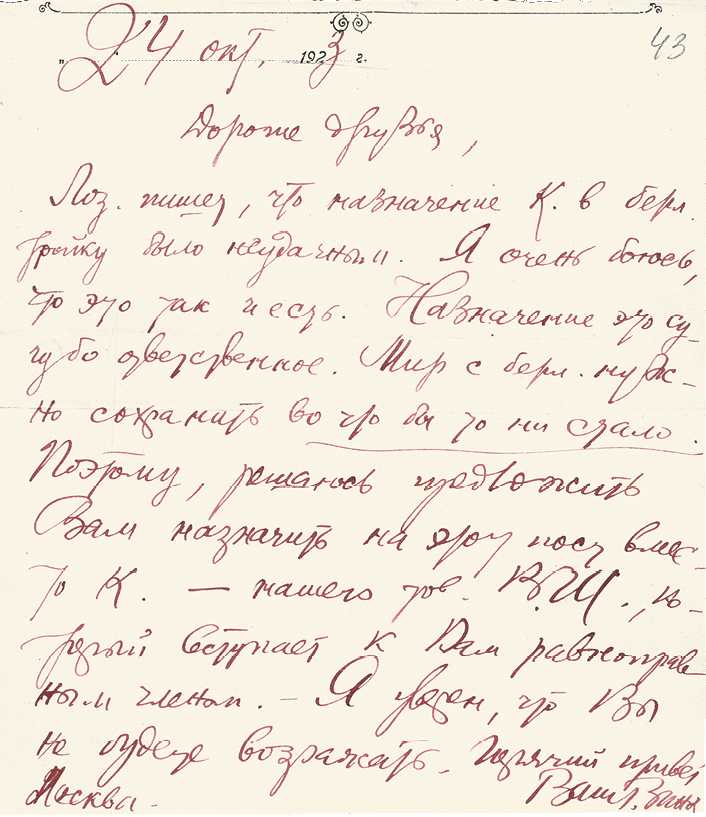
Телеграмма Г. Е. Зиновьева К. Б. Радеку и Г. Л. Пятакову о том, что вместо В. В. Куйбышева в берлинскую «четверку» назначен нарком труда В. В. Шмидт
24 октября 1923
[РГАСПИ. Ф. 326. Оп. 2. Д. 21. Л. 43]
Радек выступил в защиту Троцкого иным образом, написав особое письмо в Политбюро ЦК РКП(б), превосходившее по своей резкости все прочие документы оппозиции. «Кризис партийный, который в других условиях не представлял бы для партии смертельной опасности, теперь означал бы смертельное поражение Советской России и германской революции». Понимая, какого накала достигла взаимная неприязнь оппонентов, Радек пытался использовать последний аргумент — брошенные на произвол судьбы компартии Запада. «Я заявляю Политбюро, что если спора не удастся локализовать в Политбюро, а в крайнем случае в ЦК, если будет угрожать опасность сделать его публичным, то я обращусь к руководящим товарищам западноевропейских компартий с требованием их немедленного вмешательства с целью остановить это безумие…»[517] То, что автор письма называл безумием, станет стержнем истории большевистской партии последующих пяти лет.
2.18. Варшава — Дрезден — Берлин
Не дожидаясь реакции на свой демарш, Радек без спешки отправился в Германию. Он несколько дней провел в Варшаве, где встретился со своими бывшими однопартийцами и даже посетил оперный театр. Очевидно, это была тактическая пауза, лидер «четверки» ежечасно получал свежую информацию из Германии и предоставил событиям право идти своим ходом, так как понимал, что его приезд уже ничего не изменит. В Дрезден он прибыл лишь вечером 22 октября. В фойе выбранного им отеля мелькали одни армейские униформы — город был объявлен на военном положении и в него вошли части рейхсвера.
К этому моменту уже стало ясно, что германский Октябрь не состоялся. По указанию Политбюро, продублированному Исполкомом Коминтерна, представители КПГ вошли в земельные правительства Саксонии и Тюрингии, образовав коалицию с социал-демократами. Их целью было вооружение пролетарских сотен и отражение возможного выдвижения из Баварии фашистских отрядов, а в перспективе и самостоятельный поход на Берлин. Однако рейхспрезидент Эберт опередил такое развитие событий. Брандлер, всего на несколько дней ставший саксонским министром без портфеля, не получил поддержки собрания германских фабзавкомов, которое было созвано в Дрездене 21 октября. В таких условиях сохранять курс на вооруженный захват власти было равносильно самоубийству, и председатель КПГ дал приказ к отступлению, который сразу же по своему прибытию поддержал Карл Радек. Он же распорядился о немедленном возвращении Правления партии в Берлин.
Московский эмиссар не стеснялся в выражениях, описывая поведение своих подопечных в дни, предшествовавшие его появлению в Дрездене. В то время как Брандлер, Бетхер и Геккерт целые дни просиживали на заседаниях саксонского кабинета министров, остальные члены Правления сидели сложа руки, и до сих пор они «ходят, как овцы, без дела и разлагаются». «Две недели партия занималась истерическим ожиданием [исхода. — А. В.] конфликта из-за Саксонии. В Саксонии мы оказались в дураках»[518]. Действительно, политический эксперимент, в ходе которого коммунисты легальным образом вошли в правительство одной из ключевых земель Германии, завершился полным крахом.
Резкие оценки, которые давали члены «четверки» саксонскому отступлению, подтверждались и советскими журналистами, находившимися в Берлине. «…События застали партию врасплох. Она, очевидно, не была подготовлена ни к сильному сопротивлению буржуазии, ни к жалкому поведению левых социал-демократов… Верхи партии совершенно непозволительно преуменьшали трудности завоевания власти в Германии. В правительство Цейгнера вошли на авось, не отдавая себе отчета в том, что это означает вызов на гражданскую войну»[519]. В центральной прессе СССР, напротив, сохранялись бодряческие оценки: «Разгрома рабочего класса нет никакого… Настроение у рабочих — боевое; коммунисты быстро применились к новым условиям. Повторяем, разгрома не было и нет. В Саксонии то же самое: там было правильное отступление без разгрома наших сил. Это есть основной факт»[520].
Радек в своих взаимоотношениях с лидерами КПГ имел все основания представлять себя евангельским пастырем робких овец. 3 ноября 1923 года он не без труда добился одобрения резолюции, где говорилось об установлении в стране военно-фашистской диктатуры в лице генерала Секта, которая поставила крест на Веймарской республике. Тезис о победе фашистов не просто подтверждал идеологические построения Коминтерна, но и давал четкий ответ на вопрос «кто виноват». Если альтернатива, с которой соглашались все — «либо мы, либо фашисты» — была верна, то победа последних означала подтверждение сразу двух фактов: силы праворадикальных движений как последней надежды мирового капитала и слабости буржуазной демократии, воплощением которой выступала Веймарская республика.
При такой постановке вопроса коммунисты оказывались «третьим радующимся», и их отказ от вступления в схватку мог быть оправдан выжиданием более благоприятного момента. Очевидно, что такое объяснение диктовалось прагматическими соображениями Радека, рассуждавшего в логике «своих не сдаем». Оно вполне устраивало руководство КПГ, хотя Брандлер и отдавал себе отчет в том, что в списке потенциальных козлов отпущения он все равно останется на первом месте. Подчеркивание фашистской угрозы плохо соотносилось с его собственными утверждениями в партийной прессе о Веймарской республике как о «проститутке, которую социал-демократы по частям переуступили буржуазии», о налаженном разделении труда между Сектом и Гитлером[521], каждый из которых по-своему охраняет основы капиталистического строя в Германии.
На первых порах с этим согласились и в Исполкоме Коминтерна: «Воля рабочего класса еще не настолько оформилась, чтобы КПГ в одиночку могла выступить против фашистского переворота в Саксонии, устроенного имперским правительством», — говорилось в одной из аналитических записок информационного отдела ИККИ[522]. Этот тезис будет жить в Коминтерне до тех пор, пока сам Радек, обвиненный во фракционной борьбе, не покинет ряды его вождей. В момент ухода он будет объяснять свою новацию необходимостью дать хоть какое-то объяснение резкому отказу коммунистического движения от тактики единого рабочего фронта, которая подразумевала коалиции с социал-демократией — разве можно предлагать сотрудничество партии, которая привела к власти фашистов?

Письмо Бела Куна Радеку о том, что он донес до И. В. Сталина и Г. Е. Зиновьева основные требования оппозиционеров
Январь 1924
[РГАСПИ. Ф. 326. Оп. 2. Д. 1. Л. 105]
Отказ от борьбы в Саксонии дал левой оппозиции новые аргументы в борьбе против брандлеровского руководства. В Берлине открыто говорили об измене вождей, самые горячие головы предлагали даже арестовать все Правление КПГ и избрать вместо него комитет действия[523]. Оставаясь вплоть до конца ноября 1923 года в Германии, Радек безуспешно пытался выступить примирителем противостоящих друг другу фракций в партии, хотя ровно полгода назад именно он провел в жизнь решение Коминтерна о введении «левых» в состав ее Правления.
Острота внутрипартийного размежевания в КПГ объяснялась тем, что оно являлось достаточно точным отражением конфликта, набиравшего силу в высшем эшелоне РКП(б). Принципиальные разногласия уступали место интригам и клановым разборкам, начиналось сведение старых счетов. Радек неожиданно пригласил на беседу своего недоброжелателя Бела Куна, изложив тому собственное видение путей урегулирования внутрипартийного конфликта. По словам Куна, его собеседник высказался за то, чтобы четверть членов ЦК представляли бы «хотя и не сторонников тов. Троцкого, но были бы все же из товарищей, присутствие в ЦК которых прекратило бы изолированность тов. Троцкого»[524]. Среди таковых назывались фамилии Осинского и Красина. Позже Радек стал отрицать сам факт состоявшегося разговора.
Характерной чертой первой фазы конфликта в верхушке российской партии было то, что нараставшие коллизии в ней прикрывались в том числе и коминтерновскими сюжетами. Зиновьев и Сталин, на протяжении нескольких месяцев присматривавшиеся к берлинской оппозиции, после краха саксонского эксперимента высказались за смену руководства германской компартии, обвинив Брандлера в «правом уклоне». Напротив, Радек и Пятаков (Троцкий пока еще оставался в тени) подчеркивали, что ликвидация тактики единого фронта без тезиса о победе фашизма в Германии будет означать «признание ошибочности политики Коминтерна и КПГ в течение последних трех лет. Это делают берлинские левые болтуны. Они могут в свою защиту сказать, что всегда были врагами этой тактики. Вы этого сказать не можете без самоликвидации, как вожди мирового пролетариата»[525].
Развязка драмы о несостоявшемся германском Октябре должна была произойти если не при участии, то как минимум в присутствии лидеров КПГ, которые стали прибывать в Москву в конце ноября — декабре 1923 года Каждому из них предстояло определиться со своими политическим симпатиями. Если «левые» надеялись на покровительство Зиновьева, то «центр» во главе с Пиком и Брандлером сохраняли верность Радеку. Немалую роль играли и настроения немецких сотрудников Исполкома Коминтерна. Референт представительства КПГ Й. Айзенбергер предупреждал о плохо скрываемом раздражении, которое доминировало в высшем эшелоне большевистской партии. «При всем уважении, которого заслуживают русские товарищи, все они — за исключением Радека, имеющего гораздо более ясные представления о Германии, являются жертвами собственного положения. Другими словами: за последние шесть лет нахождения у власти они привыкли играючи преодолевать любые препятствия, и это обстоятельство накладывает свой отпечаток на их суждения по германскому вопросу»[526].
Активную разъяснительную работу среди прибывавших из Берлина вели и московские хозяева. Радек детально проинформировал немцев о разногласиях Троцкого с большинством Политбюро, подчеркнув, что остроту внутрипартийной дискуссии обусловило разочарование событиями в Германии[527]. 9 декабря состоялась трехчасовая беседа делегации КПГ с Зиновьевым, по итогам которой им стало ясно, что с нынешним составом Правления партии покончено[528]. Вопрос заключался только в том, сможет ли германская компартия занять консолидированную позицию в ходе предстоявшего обсуждения октябрьских событий, что могло бы побудить лидеров РКП(б) прислушаться к ее мнению.
Радек продолжал настаивать на том, что, дав в последний момент сигнал к отступлению, Брандлер спас партию и весь рабочий класс Германии от полного разгрома. В случае же принятия зиновьевской точки зрения большевистское Политбюро «понесет ответственность за раскол немецкой коммунистической партии, который будет означать конец Коминтерна»[529]. Троцкий и Радек подготовили свой проект резолюции, ознакомив с ним делегацию КПГ. Поскольку в ней доминировали представители «центра», т. е. умеренного крыла Правления, ее солидарность с данным вариантом резолюции была предопределена.
Дальнейший ход событий можно реконструировать по протоколам Политбюро и докладам, которые члены делегации КПГ направляли в Берлин. Немцы не просто участвовали в работе Политбюро российской компартии, но и неоднократно выступали на его заседаниях[530]. Страсти накалялись с каждым днем: 27 декабря 1923 года Сталин напомнил Радеку о его октябрьском ультиматуме: «Вы угрожали, что поднимите компартии Запада против РКП. В день, когда вы это сделаете, вы полетите в два счета из нашей делегации в Коминтерне»[531]. Тот парировал: «…точка зрения т. Сталина означает запрет членам РКП обращаться к Коминтерну по вопросам жизни и смерти русской партии, а также Интернационала, являясь, таким образом, полным отрицанием основ Коминтерна»[532].
Итогом словесной перепалки стало осуждение взглядов Радека на фашизм как «оппортунистических», включенное в постановление Политбюро ЦК РКП(б)[533]. В таких условиях приглашенные немецкие коммунисты, руководимые инстинктом самосохранения, предпочли держать свое мнение при себе. Заявление Троцкого с осуждением «ультимативной попытки заставить германскую партию принять за основу резолюцию Политбюро без участия немецких товарищей»[534] было оставлено большинством без внимания.
Хотя дискуссии лидеров РКП(б) и КПГ велись за закрытыми дверями, Коминтерну в последний год жизни Ленина было далеко от тотальной секретности 1930-х годов. Радек мог опереться на поддержку не только своих немецких, но и польских соратников, которые уже в начале декабря потребовали от Зиновьева предоставить им полную информацию о внутрипартийном конфликте. Представители других компартий в ИККИ также имели достаточно полную картину происходящего и транслировали ее своим лидерам, что формировало определенные модели поведения и являлось фактором их подспудной «большевизации». Так, чех Карел Крейбих сообщал в Прагу о том, что члены Правления КПГ в Москве слишком долго колебались и не решались принять сторону Зиновьева без ознакомления с проектами резолюций, но после давления со стороны последнего «Радек вместе со всей брандлеровской группой отправился в преисподнюю».
Чтобы сгладить конфликт, Зиновьев сдержал еще одно обещание, данное лидерам КПГ. 6 января 1924 года Исполком заслушал его доклад о конфликте в российской партии, обширный и скучный, который начинался с краткого курса истории большевиков и заканчивался цитатами из работ немецкого политолога Роберта Михельса[535]. Это было совсем не то, чего ожидали собравшиеся в зале иностранные коммунисты.
Разочаровывающим был и содоклад Радека, который носил примирительный характер и выглядел как его попытка подняться над схваткой наследников Ленина. Докладчик припомнил свой старый разговор с одним из неназванных соратников вождя, который сказал ему буквально следующее: даже если позиция Ленина казалась ему неправильной, он все равно за нее голосовал, так как в конечном счете вождь всегда оказывался прав. Именно это ранее удерживало партию от внутреннего раскола, который теперь представлялся Радеку неизбежным.
Он призвал к переходу РКП(б) на уставные рельсы внутрипартийной демократии, который откладывался вначале из-за Гражданской войны, разрухи и голода, затем из-за нэповского отступления и болезни вождя. «Ленин понял, что нельзя управлять партией в 400 тыс. человек, бросая ей лозунги сверху. Необходимо, чтобы масса сама размышляла и принимала участие в выработке этих лозунгов, боролась за них и таким образом участвовала в партийной работе»[536]. По объему содоклад от оппозиции почти не уступал речи Зиновьева, отличаясь от нее только остротами, от которых эмоциональный Радек не мог удержаться. Так, поднимаясь на трибуну, он предложил назвать речь основного докладчика следующим образом: «Как в декабре 1923 г. Троцкий сошел с ума и привел в психдом меньшинство РКП».
Окончательный вариант резолюции «Об уроках германских событий» воспроизводил точку зрения сталинско-зиновьевской фракции, которая в целом солидаризовалось с левой оппозицией в КПГ. В нем говорилось о том, что осенью 1923 года Германия достигла революционной ситуации, в стране имелись все объективные предпосылки для успешного вооруженного восстания и перехода власти в руки пролетариата. Однако партийное руководство в силу своей нерешительности и колебаний не использовало представившийся шанс, дав сигнал уклониться от борьбы, что было аттестовано на большевистском жаргоне как капитулянтство, хвостизм и проявление «правого уклона».
С партийного Олимпа были свергнуты не только Брандлер и Тальгеймер, но и целая плеяда немецких левых социалистов, основавших Союз Спартака, а затем и КПГ. Радек, оказавшийся с ними в одной компании и отстраненный от участия в германской политике, в очередной раз вынес сор из коминтерновской избы, заявив на заседании, что выступает «против идейной капитуляции перед незрелыми вождями лже-революционной левой, против ликвидации тактики единого фронта, как она была начата вопреки сопротивлению тов. Зиновьева и под руководством Владимира Ильича в 21-м году.
Та часть Германской компартии, которую резолюция Политбюро называет правым крылом КПГ, является основной группой партии, которая выросла в боях против Каутского с 1911 г., которая вынесла на своих плечах всю тяжесть нелегальной борьбы Союза Спартака против войны, которая основала компартию в 1918 г. и руководила гражданской войной в 1919–1920 гг. С этой группой… я был и остаюсь в основном солидарным»[537].
В то же время Радек не был бы Радеком, если бы не оставил приоткрытой дверь для будущего покаяния и возвращения. Здесь же он заявил, что ради примирения фракций КПГ отказывается отстаивать свою позицию на предстоявшей партийной конференции. Мне придется оставить при себе, — писал Радек, — «мое мнение о причинах поражения в Германии и Болгарии и по другим назревающим вопросам, которые — не сомневаюсь — в ближайшем будущем встанут в ясной форме как перед русской, так и перед другими секциями Коминтерна»[538]. В последующие годы ему еще не раз придется каяться и предлагать свои услуги победителям во внутрипартийной схватке за единоличную власть — вначале добровольно, а затем по их указке.
2.19. В стане оппозиции
Не имея прочных связей в руководстве партии, к которой он пришел лишь в 1917 году, Радек после своего германского поражения оказался не у дел. От Ленина, которого он считал своим покровителям и к которому обращался в случае нужды, его изолировали уже в конце 1922 года, а смерть вождя поставила точку в их отношениях, диктовавшихся признанием взаимной полезности. Выступая перед студентами Социалистической академии на траурном мероприятии в дни похорон, Радек так обрисовал перспективу дальнейшего развития Коминтерна: «Задача состоит в том, что мы теперь будем руководить без советов Ленина… Задача руководства движением будет состоять не в канонизировании всякого слова Ленина, а в том, чтобы облегчить широкому кругу международного рабочего класса понять историческую обстановку, в которой сложились ленинские уроки о политике пролетариата, понять составные части его линии, научиться отличать временное от постоянного»[539]. Настаивая на необходимости недогматического подхода к ленинскому учению «как источнику живой, постоянно меняющейся тактики пролетариата», Радек употреблял термин «ленинизм», который вскоре станет ключевым в партийном лексиконе большевиков.
Он одним из первых начал конструирование ленинского мифа, частью которого было утверждение, что уже в швейцарской эмиграции вождь начал подготовку создания нового Интернационала. Согласно Радеку, в недрах Циммервальдского объединения Ленин «создает нелегальную организацию» с сетью агентов в воюющих странах, чтобы «выйти из Циммервальда и начать подготовку международной конференции, которая должна была тогда в 1917 г. основать Коммунистический Интернационал. Мы не исполнили этих задач по той простой причине, что тогда надо было мобилизовать немецких независимых на защиту русской революции»[540].
Выбрав сторону Троцкого и проиграв первую схватку в союзе с ним, Радек на какое-то время попытался уйти в тень и вернулся к литературной работе. Он засел за написание трехтомной «Истории германской революции» и работал запоем, еженедельно возмущаясь по поводу издательской волокиты[541]. Но спрятаться за письменным столом от карающей длани правящей партии ему не удалось. Политбюро 31 января 1924 года лишило его всех постов, отправив в бессрочный отпуск, решением Исполкома Коминтерна ему было запрещено любое вмешательство в политику КПГ, лидерами которой стали ненавистные «леваки» Рут Фишер и Аркадий Маслов.
Попав в опалу, наш герой пытался спасти хотя бы крохи политического капитала, наработанного в период борьбы за единый рабочий фронт, обращаясь напрямую к Зиновьеву, с которым еще совсем недавно разговаривал панибратски. Так, он писал о том, что после перехода компартии в руки левых «нас выбросят из профсоюзов и мы не будем в состоянии организовать наших людей. Видно, что общая ситуация в партии не позволяет даже Вальхеру трезво подумать о положении… Я лично считаю, что нельзя идти на раскол в профсоюзах в данный момент», т. е. нельзя раскалывать весь спектр рабочих организаций по партийному признаку, что неизбежно приведет к полной изоляции коммунистов[542].
«Последнему интернационалисту», ранее мечтавшему хоть несколько месяцев провести в Советской России, стали регулярно отказывать в поездках за рубеж, даже свой кабинет в здании ИККИ на Моховой бывший секретарь Коминтерна смог отстоять с большим трудом. Радек жил, перечитывая каждый день горы газет и занимаясь политической публицистикой. Пятый конгресс Коминтерна, состоявшийся летом 1924 года, фактически поставил крест на его политике единого рабочего фронта, подтвердив зиновьевскую трактовку рабоче-крестьянского правительства как синонима диктатуры пролетариата.
Радек получил разрешение выступить на конгрессе (в то время как Троцкий предпочел отмолчаться) и в пространной речи изложил всю историю своей борьбы за новую тактику, завершив ее выводом о том, что Зиновьев в отсутствие Ленина тихо ее похоронил[543]. Когда Председатель Коминтерна назвал вхождение лидеров КПГ в саксонское правительство «банальной парламентской комедией», Радек взорвался: «Товарищи, события в Саксонии — не комедия. Это трагедия, и не парламентская трагедия, а трагедия коммунистической партии, которая еще не научилась подготовлять вооруженную борьбу»[544]. Оказавшись в низшей точке своей партийной карьеры, он произнес одно из самых ярких выступлений, в котором полемический пыл оттенял трезвые мысли о том, что иностранных рабочих не заманить в ряды компартий «барабанным боем».
Наш герой ежеминутно находился под прицелом своих оппонентов, но не сбавлял тона в изложении своих разногласий с большинством ЦК РКП(б) перед иностранными коммунистами. Он продолжал защищать октябрьское отступление 1923 года в Германии: «…без этого отступления, подчинившись воле левых, мы имели бы 20 000 убитых и совершенно разгромленную партию». Что касается русского вопроса, то и здесь Радек высказывал «опасения насчет преувеличенной дисциплины. РКП может выполнить свои гигантские задачи лишь при условии, что она не только будет хорошо дисциплинированной партией, но и такой [партией], которая ощущает жизнь страны и умеет эту жизнь связать с собой». Он имел в виду, что успокоение, принесенное нэпом, порождает повышенную политизацию молодежи и крестьянства, которую уже невозможно втиснуть в узкие рамки большевистской партии[545].
Сделав выбор в пользу Льва, Радек проявлял завидную последовательность в его защите. «Я примкнул к Троцкому, убедившись, что он прав. Он единственный творческий ум крупного калибра среди нас, и после смерти Ленина он является самым популярным человеком в рабочем классе, крестьянстве, в глазах молодежи и армии»[546]. Осуждение троцкизма партиями Коминтерна на конгрессе 1924 года произошло чисто механически, «голосовалось не действительное отношение к проблемам, выдвинутым дискуссией, а доверие к ВКП, руководителю русской революции»[547].
Отчаяние было не в характере нашего героя. Скорее по привычке его продолжали приглашать на дипломатические приемы в Москве, на которых он неизменно шокировал чопорных иностранцев своим небрежным туалетом и своей беспардонностью. Любой идейный спор Радек приправлял своим фирменным цинизмом. Во время одной из бесед с новым германским послом в Москве, графом Брокдорф-Ранцау, он следующим образом отреагировал на заявление собеседника, что, придя к власти, немецкие коммунисты превратят Германию в руины и отдадут ее на растерзание французам: «…насколько я могу видеть, якобы имеющая место неспособность немецких коммунистов управлять страной еще должна быть доказана, в то время как политическое банкротство немецких буржуазных партий давно уже налицо»[548].
От случая к случаю Радек принимал участие в обсуждении внешнеполитических вопросов в Политбюро, 9 октября 1924 года этот орган признал желательной его поездку в Великобританию, где в этот день подало в отставку первое лейбористское правительство[549]. Вместе с опальными лидерами КПГ Брандлером и Тальгеймером, находившимися в Москве в почетной ссылке, Радек пытался наладить связь с немецкими функционерами, недовольными диктаторскими замашками левацкого руководства в партии, и создать противовес группе Фишер — Маслова.
Ее представители в Москве вели за опальным коминтерновцем настоящую слежку, не упуская ни одного случая для того, чтобы обвинить его в «незаконных» связях с немецкими эмигрантами, не по своей воле оказавшимися в Советской России. Особенно старался Гейнц Нейман, в конце 1924 года он имел длительную беседу с Радеком, о результатах которой доложил в Берлин, поднявшись до глобальных обобщений: «Очевидно, что международная фракция правых использует рост влияния социал-демократии для того, чтобы пропихнуть новое издание тактики единого фронта сверху под флагом завоевания социал-демократических рабочих»[550].
В конце концов представительству КПГ при ИККИ удалось сфабриковать дело о подпольной фракции Радека — Брандлера — Тальгеймера и добиться их осуждения Центральной контрольной комиссией РКП(б). Нейман детально докладывал в Берлин о том, как «собирались» и препарировались данные о фракционной деятельности этой тройки, выражая сожаление, что вопреки предпринятым усилиям не удалось добиться исключения обвиняемых из КПГ. Дело в том, что у них нашлись влиятельные заступники — Бухарин и Мануильский, кроме того, «Клара [Цеткин] предпринимала отчаянные попытки со слезами на глазах повлиять на Зиновьева»[551]. Сохранившаяся в архиве Коминтерна стенограмма заседаний ЦКК в марте 1925 года[552] доказывает, как много общих черт объединяло этот партийный трибунал с технологией показательных процессов 1936–1938 годов, одним из главных обвиняемых на которых предстояло стать нашему герою.
В августе 1925 года о нем наконец-то вспомнили: Карл Радек стал ректором Университета имени Сунь Ятсена. За звучным названием скрывалась коминтерновская школа подготовки китайских революционеров. «Китайская косичка не привела меня в восторг»[553], — писал Радек о своем новом назначении, однако со свойственной ему энергией взялся за новое дело, принялся учить китайский язык и вскоре превратился в признанного эксперта в данной сфере. Его статьи, посвященные проблемам китайской революции, стали регулярно появляться на страницах газеты «Правда» и журнала «Коммунистический Интернационал». К этому периоду относится его набросок тезисов о политике Коминтерна, в котором автор формулировал не только нелицеприятную критику состояния его Исполкома, но и позитивные предложения, очевидно, все еще рассчитывая на окончательную реабилитацию и возвращение на авансцену международной политики большевиков[554].
Избегая пропагандистских штампов, Радек давал в целом верную оценку итогам Пятого конгресса Коминтерна — из руководства компартий были устранены социалисты довоенного склада, им на замену должны были прийти «молодые левые элементы, которые не прошли социал-демократической школы и поэтому легче смогут повести борьбу против социал-демократии, как левого фланга фашизма, которые решительнее смогут мобилизовать рабочие массы под знамена ленинизма».
Прошедший год показал, что решительная чистка европейских компартий от правых элементов закончилась катастрофой. «Левое крыло Коминтерна, пришедшее к власти под непосредственным давлением ИККИ, не было в состоянии справиться с задачей коминтерновской пропаганды». Играя с лозунгом раскола профсоюзов, коммунисты потеряли и без того шаткие позиции в рабочем движении. И наконец, «левый курс в Коминтерне означал не только отрыв от социал-демократических масс, от масс, симпатизирующих коммунизму, но он приводил с роковой необходимостью к отрыву от коммунистических партийных масс».
Поставив верный диагноз, Радек, как и его ментор Троцкий, не нашел адекватных методов лечения болезни, которая давно уже была обнаружена в правящей партии большевиков. Речь шла о прогрессирующей бюрократизации партийного и советского аппарата, его отрыве от реальных проблем, стоявших перед Советской Россией. Очевидно, что эта болезнь не могла не перекинуться на аппарат Коминтерна и зарубежных компартий, которые, как это подчеркивалось на каждом шагу, представляли собой «плоть от плоти» доктрины и практики большевизма. Иными словами, компартии вырождались в секты аппаратчиков и догматиков, находившихся на содержании ВКП(б).
О последнем факте говорилось как о язве, разъедающей организм коминтерновских секций, и говорилось открытым текстом (напомним, что радековские «наброски» не были предназначены для публикации): «Организационный поворот Коминтерна требует прекращения политики содержания партий субсидиями, особенно в тех странах, где партии легальны и могут содержать самих себя. Эти субсидии были необходимы в период непосредственных революционных возможностей, когда партиям приходилось пытаться охватить огромные массы… Теперь содержание партии — это содержание бюрократии, независимой от партии. Бюрократия эта не позволяет партии развить собственную внутреннюю жизнь, боясь, что будет смещена. Но, справляясь великолепно с функцией удушения жизни партии, она неспособна быть хотя бы только проводником решений Коминтерна, ибо это требует интимной связи с массой. Без ликвидации субсидий на содержание этой бюрократии все прочие реформы являются утопией»[555].
Разумные мысли о предоставлении партиям большей самостоятельности в кадровых и финансовых вопросах сочетались в документе с традиционным призывом к усилению руководящей и направляющей роли Исполкома. Радек обвинял этот орган в недостаточном контроле над отдельными секциями Коминтерна, самоустранении от оперативной реакции на ключевые для той или иной страны события. В случае с Болгарией и Эстонией это были неудавшиеся попытки революционных выступлений, в случае с Германией — неразумная тактика КПГ на президентских выборах, приводившая на первый пост в этой стране престарелого фельдмаршала Гинденбурга, деятельность которого станет роковой для веймарской демократии.
Луч света забрезжил в политической карьере Радека в начале 1926 года, когда после поражения ленинградской оппозиции на Четырнадцатом съезде ВКП(б) под ударом оказался его главный оппонент — Зиновьев. До сих пор остаются в ходу исторические легенды, согласно которым Радек вынашивал идею союза Сталина и Троцкого против Каменева и Зиновьева[556]. Реалии выглядели иначе. Сталин действительно вспомнил о «мастере тайных поручений» и попытался перетянуть его на свою сторону, уговорив новое руководство КПГ на его реабилитацию и отправку в Германию. «На днях я натолкнулся на решительное сопротивление делегации, причем двукратная беседа с нею не привела ни к каким положительным результатам», — с сожалением сообщал он Радеку 20 февраля 1926 года[557].
Память о совместной борьбе накануне несостоявшегося германского Октября облегчили Радеку вступление в ряды «объединенной оппозиции». Он стал одним из ее главных экспертов по международным вопросам, хотя в отличие от Зиновьева и Троцкого ни разу не получил возможности выступить с изложением ее платформы на пленумах Исполкома Коминтерна. В пылу борьбы с фракцией Сталина — Бухарина Радек прибегал к весьма оригинальным методам, вплоть до карикатурного высмеивания оппонентов[558], однако все они имели тот же нулевой эффект, что и его октябрьский ультиматум 1923 года.
2.20. «Китайская косичка»
Впервые Радек проявил себя в китайских вопросах во время Четвертого конгресса Коминтерна, когда под его руководством была подготовлена резолюция о задачах Компартии Китая (КПК). В ней делалась ставка на ее самостоятельное развитие в спектре национальных политических сил: «Коммунистическая партия Китая не должна подчиняться ни одному из этих центров, создающихся китайской буржуазией, даже если руководители этих центров имеют полудемократический или даже народнический характер»[559]. Однако вскоре с подачи советского полпреда в Китае Адольфа Иоффе НКИД высказался за тесное сотрудничество КПК и крупнейшей партии национально-освободительного движения страны — Гоминьдана, что и было продублировано на заседании Исполкома Коминтерна 6 января 1923 года[560].


Университет трудящихся Китая имени Сунь Ятсена (современное фото) и его студенты
[Из открытых источников]
Последующие события на завершающем этапе китайской революции описаны в соответствующих разделах каждого из очерков этой книги — все лидеры ВКП(б) и Коминтерна с надеждой смотрели на Дальний Восток, рассчитывая увидеть там еще один центр противостояния мировому империализму Запада. И наш герой здесь не являлся исключением, хотя его позиция во многом определялась логикой внутрипартийного конфликта в российской партии. «Вплоть до лета 1926 г. Радек всецело поддерживал линию ИККИ в Китае и как один из официальных „китаеведов“ играл видную роль в ее пропаганде… Зачастую он был даже более категоричен, чем лидеры большевистской партии и Коминтерна»[561]. Среди прочего наш герой отстаивал наличие в Гоминьдане рабоче-крестьянского крыла, и в апреле 1926 года выступил в поддержку позиции Сталина против Зиновьева, считая, что ситуация не подошла к последней черте и китайские коммунисты еще смогут повернуть Гоминьдан влево.
Оставаясь ректором Университета имени Сунь Ятсена, Радек резко критиковал замалчивание советской прессой репрессий против китайских коммунистов[562], жаловался на то, что в его учреждение присылают исключительно молодых гоминьдановцев, которые никак не хотят перевоплощаться в коммунистов[563]. 22 июня 1926 года он фактически сформулировал платформу «объединенной оппозиции» по китайскому вопросу, выступив с тезисами «Об основах коммунистической политики в Китае». Их методологической основой оставался все тот же ортодоксально-марксистский анализ соотношения классовых сил. Вопрос в конечном счете сводился к тому, сможет ли немногочисленный китайский пролетариат повести за собой многомиллионные массы крестьян и ремесленников.
Радек ясно видел перспективу раскола в революционном лагере, который он считал неизбежным: «…выросши в массовую партию, Гоминьдан тяготится контролем со стороны коммунистов… На основе этого положения создаются трения, угрожающие существованию кантонского правительства, дающие почву для правого крыла Гоминьдана, которое стремится к разрыву блока с рабочим классом». Выход виделся автору тезисов в том, чтобы КПК и Гоминьдан перешли от аморфных форм сотрудничества «к блоку двух самостоятельных партий». Этот вывод нашел позитивную оценку Троцкого, который также считал, что в нынешнюю эпоху «организационное сожительство Гоминьдана и компартии… все более становится тормозом» революционного процесса[564].

Сунь Ятсен и Чан Кайши
Середина 1920-х
[Из открытых источников]

Пририсовав китайскому чиновнику сталинские усы, К. Радек прокомментировал свою отставку с должности ректора Университета трудящихся Китая
Коллаж Радека
1927
[РГАСПИ. Ф. 326. Оп. 2. Д. 19. Л. 11]
Радек рассматривал два возможных пути развития китайской революции — либо дело закончится «рабоче-крестьянской демократической диктатурой», которая приведет к появлению центральной власти, способной противостоять империалистической экспансии в страну, либо она, «миновав буржуазно-демократический этап, приведет непосредственно к социалистической революции»[565]. В дальнейших разработках по Китаю наш герой все более определенно высказывался за выход КПК из Гоминьдана, неизменно заслуживая похвалу Троцкого[566]. Оппоненты последнего немедленно нанесли ответный удар, отменив уже одобренную командировку Радека в Великобританию[567], вернувшись в ряды оппозиции, тот окончательно стал «невыездным». 13 декабря 1926 года Секретариат ИККИ отказал Радеку в предоставлении слова на расширенном пленуме Коминтерна, сославшись на то, что тот не является его делегатом, а решение ЦК ВКП(б) о запрете ему работать в Коминтерне остается в силе[568]. Зима 1926/1927 года показала, что в разработках оппозиционеров по китайскому вопросу содержалось немало рациональных моментов, которые с порога отвергались сталинским большинством.


Статья К. Радека «Беспринципное политиканство или большевизм»
Томск. 14 апреля 1929
[РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 156. Д. 34. Л. 30–32]
Лидер военной организации Гоминьдана Чан Кайши шаг за шагом становился политическим лидером общенационального масштаба, в то время как в Москве продолжали делать ставку на его левое крыло. В этот момент оппозиция сделала ставку на китайский фронт борьбы против сталинского большинства в руководстве ВКП(б). Это резко повысило значимость экспертных оценок Радека. В марте 1927 года он выступил с серией докладов, в которых требовал «ознакомить широкую общественность с реальной картиной соотношения сил в Китае и призывал аудиторию бить в набат в связи с возможной победой буржуазии»[569]. 4–5 апреля на собрании актива столичной организации ВКП(б) Радек уже очно схлестнулся со Сталиным и Бухариным. Расплата не заставила себя долго ждать, на следующий день его сняли с поста ректора Университета Сунь Ятсена[570]. Наш герой не унимался, в начале мая он подготовил статью «Измена китайской крупной буржуазии национальному движению», которая уже из-за своего объема выглядела как аналитическая записка, претендующая на то, чтобы стать осью оппозиционной платформы в китайском вопросе[571].
Реакция Троцкого на этот материал не оставляла сомнений в том, что он не хочет уступать свое теоретическое лидерство даже в частных вопросах. Он притушил максимализм некоторых радековских формулировок: «…думаю вообще, что нам о социалистических перспективах в Китае нужно говорить поточнее и построже: без победы пролетариата передовых стран не может быть и речи о переходе Китая к социализму собственными силами или хотя бы с помощью СССР»[572]. Соответственно, все разговоры о некапиталистическом пути развития без выполнения этого условия дают пищу народническим теориям и только запутывают вопрос о характере китайской революции, которая, согласно Троцкому, остается буржуазной и антиимпериалистической.
Радек все больше тяготился идейным доминированием Троцкого среди оппозиционеров, который уже не казался ему гениальным стратегом мировой революции. Оказавшись в начале 1928 года в сибирской ссылке, наш герой начал готовить пути к отступлению и примирению со Сталиным. Для этого ему надо было безоговорочно порвать с Троцким. Разрыв вызревал достаточно медленно, первые трещины между двумя лидерами пробежали еще весной в оценках «левого поворота» и китайской тактики Коминтерна. Радек настаивал на том, что благодаря усилиям оппозиции Сталин возвращается на путь истинный. Троцкий писал об этом с искренним сожалением, пытаясь вернуть в строй одного из своих самых одаренных приверженцев: «Если бы тебе разрешили лечиться в Железноводске, я бы прибавил 5 % к своей оценке левого курса, и тогда расхождение между нами — теперь около 50–60 % — все-таки сохранилось бы»[573].
После Шестого конгресса Коминтерна, состоявшегося летом 1928 года, Радек усилил критические нотки в своих письмах и статьях, обвиняя недавнего патрона и покровителя в том, что за перспективой мировой революции он забывает об интересах простых советских рабочих[574]. Если осенью того же года Троцкий понял, что Сталин опаснее Бухарина, то Радек продолжал считать последнего корнем зла. Трудно сказать, каким здесь было соотношение между убежденностью и тактическим расчетом, желанием угодить генсеку и добиться прощения. После высылки Троцкого за границу Радек и примкнувший к нему Инвар Смилга заявили о своем несогласии с его оценкой сталинского режима: «Представление истории борьбы последних лет как заговора Сталина против Троцкого, как и концентрирование всего удара на центре со Сталиным во главе при полном умолчании опасности со стороны правых не может считаться изложением взглядов оппозиции»[575].
Радек снова почувствовал себя в своей тарелке — покаяние для него выглядело героизмом наоборот, путь в Каноссу — таким же актом исторической драмы, как и восхождение на политический Олимп. Каясь, он попадал в круг литературных героев и вслед за ними занимался самоанализом: «У меня нет никакой гордости перед партией, никакой потребности доказать, что я всегда прав, а другие — идиоты. Если б я думал, что могу помочь партии ложью и клеветой на себя, я бы на это пошел, но ведь это чистая достоевщина»[576]. Не пройдет и десяти лет, и ему придется примерить на себя роль Смердякова.

«Радек в 1952 году». Ни автор, ни герой рисунка не доживут до этого года
Дружеский шарж Бухарина
Середина 1920-х
[РГАСПИ. Ф. 326. Оп. 2. Д. 19. Л. 29]
Капитулировав перед мощью сталинского партаппарата, наш герой стал верным слугой диктатора, которого он превозносил как «зодчего социалистического общества» вплоть до своего ареста. «Сталин не просто подмял под себя Радека, он сделал его марионеткой в своей большой игре на международной арене и в борьбе против внутренней оппозиции»[577]. Его последняя статья, появившаяся в «Известиях» 31 августа 1936 года, как раз и была посвящена разгрому «троцкистско-зиновьевской банды». Вряд ли Сталин мог бы найти более подходящую жертву для показательных судебных процессов. Через две недели Радек был арестован и почти три месяца отказывался давать ложные показания и оговаривать своих бывших соратников. Ситуация изменилась после встречи со Сталиным и Ежовым, подсудимый начал активно сочинять не только собственные признания, но и готовить протоколы допросов, помогая следователям НКВД[578]. Вряд ли Радека сломили грубой силой, скорее ему объяснили, что он вновь может сыграть первую скрипку, правда, на сей раз не в политическом, а в судебном процессе.
Бывший секретарь Коминтерна с растущим увлечением подыгрывал следствию, методично расширяя круг шпионов и диверсантов среди бывших соратников вождя. Оказавшись в этом кругу, Бухарин так описывал Сталину свои впечатления об очной ставке: «И когда я смотрел на мутные блудливые глаза Радека, который со слезами лгал на меня, я видел всю эту извращенную достоевщину, глубину низин человеческой подлости, от которой я уже полумертв, тяжко раненный клеветой»[579]. Радеку — и это удивило всех, кто следил за ходом судебного процесса, была сохранена жизнь. Через несколько лет он будет убит сокамерниками в одном из сталинских лагерей.
Лишь недавно стало известно о том, что это убийство было спланировано и осуществлено по личному приказу Берии. В камеру к Радеку посадили бывшего сотрудника НКВД, который спровоцировал драку, закончившуюся убийством, а через несколько месяцев был освобожден из-под стражи как выполнивший «специальное задание»[580]. Можно не сомневаться в том, что ученые и биографы извлекут из архивных папок еще немало тайн, связанных с жизнью и смертью Карла Радека, трагическая судьба которого вобрала в себя немало ключевых сюжетов из ранней истории Коминтерна.
 ТЕЛЕГРАМ
ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник
Книжный Вестник Поиск книг
Поиск книг Любовные романы
Любовные романы Саморазвитие
Саморазвитие Детективы
Детективы Фантастика
Фантастика Классика
Классика ВКОНТАКТЕ
ВКОНТАКТЕ