ЭКСПЕДИЦИИ, ПОИСКИ И НАХОДКИ
Метагеномика. Совокуплялись ли люди с неандертальцами?
Рафаил Нудельман

Крэг Вентер — фигура в биологии широко известная. В 1990-е годы, когда его фирма «Селера» вступила в соревнование с Международным консорциумом по расшифровке человеческого генома, он стал знаменит на весь мир. Задачей «Селеры» была не только расшифровка человеческого генома, но и патентование своего открытия с последующим предоставлением всем заинтересованным научным группам нужной им для исследований информации, разумеется, за соответствующую плату. Последний «коммерческий» пункт так возмутил научную общественность, что она — в лице упомянутого Консорциума во главе с его руководителем Френсисом Коллинсом — удвоила и утроила усилия по расшифровке, и соревнование в конечном счете пошло на пользу науке, так как в результате геном был прочитан раньше намеченного срока.
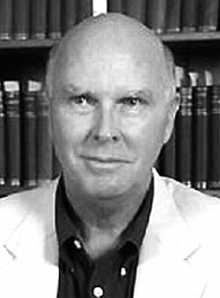
Крэг Вентер
В 2000 году Вентер вместе с Коллинсом в присутствии президента Клинтона объявили человечеству об успешном завершении предварительного прочтения генома (кстати говоря, Вентер тут не обошелся без рекламного жеста: один из пяти геномов, использованных «Селерой» для расшифровки, был его собственный). Впрочем, совет директоров фирмы «Селера» вскоре уволил своего основателя за выбранный им неверный коммерческий курс, и Вентер сосредоточился на работе в некогда основанном им институте генетических исследований. Кстати говоря, и тут не обошлось без рекламного жеста: институт, где работает Вентер, носит его имя.
Свою работу там он направил на поиск путей, которые позволили бы использовать микроорганизмы для производства этанола и водорода — двух главных видов альтернативного топлива.
Что же поделывает в последнее время этот неугомонный человек? Оказывается, он отправился в кругосветное путешествие на своей яхте «Кудесник-2» — разумеется, с научной целью. Цель эта — изучение еще неизвестных морских организмов и их популяций. Научным итогом экспедиции было открытие в морских микроорганизмах более миллиона генов и пары сотен тысяч белков, часть которых вообще была неизвестна, и они теперь будут изучаться Вентером и его коллегами в Институте Вентера с указанными выше целями.
Последняя затея Вентера представляет собой одно из направлений но вой науки — метагеномики, открывшей ученым путь к давно желаемой расшифровке генома неандертальцев. Впрочем, не следует думать, будто вся метагеномика исчерпывается лишь этим. Подобная расшифровка — побочный продукт сего новейшего и бурно развивающегося направления генетических исследований. На самом деле главная задача метагеномики — изучение организмов (преимущественно микроорганизмов) в естественной среде и естественном взаимодействии.
Приставка «мета» отнюдь не означает, что метагеномика выше традиционной геномики. Нет, цель та же: последовательная расшифровка неизвестных геномов с помощью уже проверенного набора методов. Просто на порядок выше объект исследований. Так, в обычной геномике берут некий единичный объект — не важно, человека или бактерию, выделяют его клетку или клетки, размножают их на искусственной питательной среде («в пробирке»), получают культуру, а потом из этой культуры выделяют молекулы ДНК, и затем эти молекулы подвергают расшифровке.
Когда это впервые проделывали с человеческим геномом, обе соревновавшиеся группы пользовались разными методами расшифровки. Группа Коллинза терпеливо атаковала проблему «в лоб»: секвенировала молекулу ДНК и анализировала последовательность нуклеотидов в каждом фрагменте (сразу проанализировать целую молекулу практически невозможно из-за ее огромной длины). Вентеру, имевшему куда меньше возможностей и сотрудников, удалось успешно состязаться с Консорциумом потому, что он использовал другой, намного более быстрый (хотя и менее достоверный) способ «шрапнельной» расшифровки. По этому методу молекула ДНК дробится сразу на множество мелких фрагментов, каждый из которых потом дешифруется, а затем они «сшиваются» друг с другом. Как же узнать, какой именно фрагмент сшить с каким? Для этого процедура повторяется несколько раз, с целью получения ряда вариантов перекрываний, а потом с помощью специальной компьютерной программы находят наиболее непротиворечивый вариант сшивания всех таких концов.
В метагеномике используется именно «шрапнельный» метод, правда, в усовершенствованной форме. Да и применяют его к тем объектам, которые не растут в культуре. И это главное. Даже из приведенного ранее результата плавания Вентера следует, что в окружающей среде, в различных экологических нишах: в воде, почве и т. п. — существуют тысячи и тысячи видов микроорганизмов, неизвестных науке, и, как оказалось, подавляющее их большинство в культуре не растет. Например, было показано, что в каждом килограмме отложений на дне океанов и морей живут около миллиона разных видов вирусов, и даже в человеческом кале, прошу прощения за упоминание, преспокойно существуют около тысячи (!) их разновидностей.
Метагеномическое исследование таких организмов, как правило, начинается с «шрапнельного» раздробления их ДНК, затем во всех этих (перекрывающихся) фрагментах распознается последовательность нуклеотидов, эта процедура повторяется несколько раз и по ее результатам с помощью компьютера делается попытка «сшить» фрагменты в какое-то подобие целого. В отличие от геномных исследований, где такое «сшивание» всегда удается (потому что все фрагменты в конечном счете принадлежат геному одного и того же объекта), в метагеномике объект — просто «зачерпнутая ложка» множества микроорганизмов, и «сшивка» удается далеко не всегда. Чаще всего исследователи получают «на выходе» части геномов различных организмов, живущих в исследуемом образце, но иногда — и цельные геномы каких-то доселе неизвестных науке существ. Но даже подобное приблизительное исследование дает то, чего не может дать обычная геномика — знание о микроорганизмах реальной среды в их живом взаимодействии.
Не стоит, пожалуй, объяснять, какое значение для науки — да и для практики — имеет открытие новых видов микроорганизмов и изучение особенностей сосуществования в природных экологических сообществах. Вентер надеется таким путем найти еще микроорганизмы (или их гены), которые откроют путь к альтернативным источникам энергии.
Группа микробиолога Джойнта исследует влияние, которое может оказать предлагаемая некоторыми учеными закачка углекислого газа в океаническое дно, на живущие там донные сообщества микроорганизмов — ведь на самом деле они составляют одно из важнейших звеньев планетарной экологической цепи.
Все эти непрерывно увеличивающиеся по размаху и задачам исследования в совокупности и составляют современную метагеномику, которая выросла из работ, начатых более двадцати лет назад американским микробиологом Норманном Пэйсом в университете штата Индиана. Пэйс тогда предложил изучать геномы не в культурах, а прямо в среде существования исследуемых организмов и первым разработал методы подобных исследований.
Эти идеи были развиты другими учеными, а сам термин «метагеномика» впервые появился в печати в 1998 году, где был строго научно определен как «приложение методов современной геномики к исследованию сообществ микроорганизмов непосредственно в среде их обитания, минуя необходимость изолировать и культивировать в лабораторных условиях каждый отдельный их вид». Так что метагеномика отнюдь не новинка, просто раньше ее затмевала обычная геномика с сенсационными прочтениями отдельных геномов — человека, шимпанзе, кошки, собаки и так далее вплоть до (едва ли не самой недавней) лобковой вши, которая, кстати, рассказала о некоторых подробностях взаимоотношений древних людей и горилл. Теперь же метагеномика взяла реванш даже у геномики, потому что одним из ее последних по времени приложений стала своя сенсация — первая расшифровка геномов вымерших существ. В том числе и неандертальцев.

Шимпанзе
Раньше такая задача считалась неразрешимой, потому что ДНК в ископаемых костях присутствует не в цельном виде, а в виде отдельных фрагментов (в совсем древних останках возрастом миллион лет, и больше она вообще распадается). Но, как мы уже говорили, предмет метагеномики как раз и составляют методы восстановления возможного вида цельного генома по результатам анализа смесей разных невесть кому принадлежащих «кусков». И вот, пользуясь этими методами, палеоантропологи генетического толка начали медленно, но неуклонно продвигаться к заветной реконструкции «вымерших геномов». Первыми, в 2005 году, были реконструированы большой кусок (13 миллионов пар оснований) генома мохнатого мамонта, замерзший труп которого был найден в Сибири (работа канадских исследователей Шустера и Пойнара), и несколько меньший кусок (27 тысяч звеньев) генома вымершего пещерного медведя. Последнюю работу провел Джеймс Нооан из группы калифорнийского ученого Эдварда Рубина — одного из двух исследователей, возглавляющих сейчас изучение генома неандертальца (второй — известный палеогенетик Сванте Пээбо из института Макса Планка в Лейпциге).
Вооруженные методами метагеномики, группы Пээбо и Рубина сосредоточили усилия на расшифровке ядерных ДНК неандертальцев. При этом они предварили свои исследования предельно тщательной и придирчивой проверкой образцов на принадлежность именно неандертальцам, а не современному или древнему человеку. Выделенные из костей образцы ДНК разделялись на фрагменты, и каждый из них был внесен в какую-либо бактерию, которая, размножаясь, многократно его воспроизводила. Полученная таким образом библиотека хранящихся в бактериях фрагментов подвергалась изучению соответствующими метагеномическими методами.

Мохнатый мамонт
Группа Рубина сумела таким образом реконструировать 65 тысяч звеньев неандертальской ядерной ДНК, а группа Пээбо — около миллиона. Первые результаты сравнения этой ДНК с человеческой показали, что их отличия очень малы (лишь 0,5 %), но тем не менее несомненны, так что люди и неандертальцы представляют собой действительно разные виды.
Ученые с большим интересом ожидали, подтвердят ли результаты исследований Пээбо и Рубина гипотезу о возможном спаривании Гомо сапиенса и неандертальца. Группа Рубина не нашла в своих реконструкциях ни одного фрагмента, где бы геном неандертальца воспроизводил хоть какое-нибудь изменение, характерное для генома нынешнего европейца (речь идет именно о европейцах, потому что неандертальцы жили только в Европе, и, следовательно, их гибриды с людьми могли появиться лишь здесь). Это косвенно свидетельствует о том, что смешивания не происходило. Впрочем, Рубин сам признает, что число исследованных им звеньев слишком мало для окончательных выводов.
С другой стороны, группа Пээбо, имевшая в своем распоряжении почти в 15 раз больше материала, как будто бы нашла в неандертальском геноме какие-то места, где присутствуют «точечные» изменения, характерные для человека, причем в статистически значимом количестве. Однако предварительный анализ этих данных, по словам Пээбо, как будто бы показывает, что смешение людей и неандертальцов если и происходило, то, скорее всего, в одном направлении — самцы Гомо сапиенс совокуплялись с самками неандертальцев, но дети вместе с генами Гомо сапиенс оставались в неандертальской группе (то есть эти данные практически исключают внесение неандертальских генов в геном Гомо сапиенс).
Кстати, дабы покончить уже с вопросом, кто с кем спаривался в седой старине, вспомним о гориллах. В их отношении возникли совсем уж жуткие подозрения. Началось все с изучения генома человеческой вши, Педикулус хуманус.

Неандертальцы
Как известно, есть два вида вшей — те, что на голове, Педикулус хуманус капитис, и те, что на теле, Педикулус хуманус хуманус. Первыми расшифровали их геном ученые из института Макса Планка в Лейпциге, там, где работает группа Пээбо. Заняться вошью их побудило весьма важное обстоятельство: этот паразит — главный переносчик риккетсии, вызывающий эпидемический тиф — исторически непреходящую угрозу человечеству.
Геном вши оказался чуть ли не самым малым из геномов других насекомых. Разобравшись во всех его генах, исследователи установили, что телесная вошь произошла от головной, причем случилось это, судя по появившимся за истекшее время различиям генов обоих видов, не далее как 70 тысяч лет назад. Поскольку главным местом обитания телесной вши является одежда, ученые сделали логический вывод, что одежда у Гомо сапиенс появилась примерно в то же или чуть более раннее время. Это заключение вполне согласуется с другими научными представлениями о наших предках — например, с тем распространенным мнением, что именно 70 тысяч лет назад или около того они двинулись из теплой Африки на завоевание других, возможно холодных, континентов.
А что же все-таки с гориллами? Телесная вошь имеет еще одну разновидность, даже особый вид — вошь лобковую, Тирус пубис, которая живет на человеческом лобке, одном из последних остатков нашей некогда пышной — как и ныне у обезьян — растительности. Геномом лобковой вши занялись другие исследователи. Их интерес вызвало то странное обстоятельство, что все перечисленные виды вшей имеются только у человека — у шимпанзе, например, есть только головная вошь, а у горилл — только лобковая.

Лобковая вошь
Оказалось, что лобковые вши людей и горилл находятся в близком родстве и их эволюционные линии разошлись всего 3,3 миллиона лет тому назад, когда африканские леса населяли наши дальние предки из вида Австралопитек афаренсис. Поскольку лобковая вошь горилл оказалась более древней, ученые решили, что именно она была предком человеческой лобковой вши, каким-то образом перейдя с горилл на Австралопитеков. Этот вывод побудил некоторых субъектов с нездоровым воображением заговорить об интимных контактах человеческих предков с гориллами. Дэвид Рид, один из авторов нового исследования, считает эту возможность фантастической. Куда проще, говорит он, объяснить такой переход предположением, что дальние предки человека время от времени охотились на горилл и приносили на стоянки куски их мяса вместе с шерстью, а иногда, возможно, находили убежище в местах прежнего обитания горилл.
Как говорил Оккам, не умножайте сущностей без надобности.
 ТЕЛЕГРАМ
ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник
Книжный Вестник Поиск книг
Поиск книг Любовные романы
Любовные романы Саморазвитие
Саморазвитие Детективы
Детективы Фантастика
Фантастика Классика
Классика ВКОНТАКТЕ
ВКОНТАКТЕ