Глава восьмая. В ВЫСШЕМ ОБЩЕСТВЕ
БРОНИРОВАННАЯ ДВЕРЬ ОТКРЫВАЕТСЯ
Придворная аристократия в России после революции очень быстро опустилась. Вернее сказать, просто выступили на поверхность пороки, свойственные ей и раньше.
До революции придворная аристократия жила во дворцах и особняках, одевалась в мундиры и нарядные платья. Ездила в каретах и автомобилях. Когда вся эта мишура была отнята, скрытое раньше стало явным. Вдруг стало всем видно, что среди высшей российской аристократии очень много алкоголиков и наркоманов. Алкоголики пьянствовали и раньше, наркоманы и раньше не могли жить без наркотиков, но все это было покрыто глубокой тайной, скрывалось в интимных покоях особняков.
Большая часть аристократии бежала за границу. Их дальнейшая судьба не является целью нашего повествования. Меньшая часть по нерасторопности или в результате сложившихся обстоятельств осталась в России. Многие из них быстро растратили то, что осталось от их богатств, опустились, продавали на толкучке какие-нибудь никому не нужные веера или подсвечники, оборвались и ничем, ни внешностью, ни поведением, не отличались от самых обыкновенных подонков, которые, не желая и не умея работать, всегда толкались по рынкам и окраинным улицам императорского Петербурга. Была и другая, количественно гораздо меньшая группа. Это были люди, рассудившие, что, как бы ты ни относился к революции, считаться с тем, что она произошла, все-таки приходится. Представление о революции было у них самое туманное. Для них богатый купец или фабрикант, нищий рабочий и голодный студент — все это было одно и то же: «плебс» — так они думали, и «народ» — так называли они его вслух.
Они ничего не понимали в том, что произошло, но думали, что к истории надо применяться и если их поместья, дворцы и сокровища конфискованы, стало быть, надо жить как-то иначе, так же, как живет и «простой народ». Под «простым народом» они разумели тех, кто не имел громкого титула и длинной родословной.
Легко сказать — применяться. К сожалению, почти все аристократы ничего, буквально ничего не умели делать. Ни о какой работе, ни о какой специальности им даже думать не приходилось. Самым легким из доступных занятий им казалась коммерция. Почему-то они не сообразили, что для коммерции тоже нужно иметь и деловую хватку, и определенный навык.
Однажды Васильеву пришлось столкнуться с таким аристократом.
Князь Долгорукий, представитель одной из древнейших фамилий русского дворянства, объединившись с молодым бароном Фредериксом, сыном бывшего министра двора его императорского величества, продали какие-то драгоценности и, так как в то время начался нэп и частная торговля была разрешена, открыли в Петрограде пять дровяных складов. Был случай, когда на князя Долгорукого пало подозрение в том, что он участвовал в убийстве одной очень богатой графини. Подозрение было неопределенное, и Васильев решил не арестовывать князя, а поехать допросить его дома. Князь жил в маленьком особняке, в котором до революции жила семья управляющего его имениями. К удивлению Васильева, его встретил лакей в традиционной луврее Долгоруких. Васильев назвал себя, и лакей пошел доложить князю. Вероятно, по правилам хорошего тона полагается докладывать о посетителе, но правилами угрозыска это строжайше запрещено. Подозреваемый человек может подготовиться к вопросам да, наконец, даже просто уничтожить улики. Васильев вошел в столовую, где его сиятельство завтракал, вместе с лакеем. Князь принял Васильева очень любезно, пригласил сесть и даже хотел было угостить его завтраком, но Васильев отказался. Князь был маленький, слабый и, наверно, очень глупый человек. Анемичность и беспомощность сквозили в каждом его движении. Он думал, что со стороны его, князя Долгорукого, очень демократично, что он так любезно разговаривает с простым человеком. Через несколько минут лакей вошел и, поклонившись, доложил, что пришли «мужики» за расчетом. На дровяные склады надо было привозить дрова, и это, конечно, князь и барон поручали «мужикам».
Князь замахал руками.
— Гони эту сегую сволочь! — сказал он грассируя.— Не видишь — я с офицегом газговагиваю!
В убийстве графини Долгорукий, как выяснилось, участия не принимал, но и в торговле дровами они с бароном Фредериксом не преуспели и разорились очень быстро.
Была, наконец, еще одна категория бывших аристократов. Это были люди, сумевшие сохранить кое-что из своего богатства, люди расчетливые, умелые, твердо уверенные в том, что революция—явление временное, что все утрясется и в конце концов обязательно снова установится царство богатых. Обычно эти люди принадлежали не к самым верхам знати. В придворные круги они пролезали с помощью хитрости, унижений и лести. У них не было огромных поместий, и тысячи крестьян не сеяли и не убирали для них хлеб. И все-таки какими-то путями, чаще всего нечестными, они добивались некоторого влияния и сумели разбогатеть. Это были люди ловкие, хитрые, изворотливые, но и жизнеспособные. Была, например, такая Куманина. Она и ее муж были не титулованные и, стало быть, принадлежали к дворянству не высшего сорта. Тем не менее они многого добились при дворе, завели очень полезные связи, хотя и не в самом высшем кругу, и жили до революции припеваючи. Особенной заносчивости у них не было, потому что придворная их карьера требовала многих унижений, искательства и подхалимства.
Муж Куманиной сразу понял, что царство аристократии кончилось, и не чинясь, как только объявили нэп, завел мучные лабазы и повел себя как обыкновенный купец, строго следя за служащими и покрикивая на них, не упуская ни одной возможности нажиться. Был у них и сын, человек очень неглупый, стыдившийся прошлого своих родителей, отлично учившийся в институте и ставший потом серьезным и деловым инженером. В то время, о котором идет речь, то есть 2 ноября 1923 года, он, впрочем, был еще студентом.
Муж Куманиной почти целый день проводил у себя в мучных лабазах, да и по вечерам застревал где-нибудь в ресторане, чтобы окончательно договориться о какой-нибудь коммерческой сделке. Сын ее целый день проводил в институте, а по вечерам, как правило, сидел в Публичной библиотеке. Куманина жила в отдельной квартире, жила очень замкнуто, презирая мужа за то, что он занялся недворянским делом — торговлей, презирая сына за то, что он готовится к такой недворянской профессии, как профессия инженера. Теперь, после революции, она считала себя настоящей аристократкой, забыв, что в свое время получала приглашения далеко не на все балы и ужины в Зимнем дворце.
У нее работала приходящая домработница, которая до революции служила в каком-то очень знатном семействе и которой Куманина доверяла. Доверяла, впрочем, не настолько, чтобы оставлять ее в квартире на ночь. Куманина сумела сберечь много ценностей, у нее была иностранная валюта, золото и бриллианты. В квартире были тайники и в стенах и в дымоходах. Вещи были запрятаны очень старательно, и грабителям потребовалось бы много времени, для того чтобы их обнаружить. Считалось, что Куманины живут только на Доходы с мучного лабаза и что все состояние их пропало. Тем не менее Куманина очень боялась грабителей.
Все меры предосторожности были, казалось ей, приняты. Входные двери были изнутри обиты толстым листовым железом. Запирались двери на крепкие, тяжелые замки, сделанные по специальному заказу. И все-таки Куманина ни днем, ни ночью не была спокойна. Она завела фокстерьера необыкновенно скверного характера. Он очень долго привыкал к каждому новому человеку и, пока не привыкнет, яростно на него набрасывался и не просто лаял, а безжалостно кусал. Кроме того, на входной двери были две крепкие цепочки, и Куманина всегда имела возможность посмотреть на человека, который хочет войти в квартиру. Жила она очень изолированно. Она боялась всех, и грабителей, которые, казалось ей, в советское время спокойно разгуливают по улицам, помахивая кистенями и высматривая богатые квартиры, боялась и представителей власти, которые очень просто могли у нее на основании своих безбожных законов отобрать те ценности, которые ей удалось утаить и припрятать. Она боялась и просто обыкновенных людей, потому что считала, что в безбожное это время даже порядочный человек при случае может ограбить даму. Она верила только узкому кружку людей, знакомых ей по прежней прекрасной придворной жизни. Это были истинно порядочные люди — дворяне, бывавшие при дворе, принятые в лучших домах, люди, для которых дворянская или офицерская честь была дороже любых драгоценностей и даже иностранной валюты.
И вот только узкий кружок этих тщательно отобранных людей, на каждого из которых можно было положиться как на каменную гору, только узкий кружок допускался в эти забронированные, наглухо запертые покои Куманиной.
И все-таки 2 ноября 1923 года, когда сын Куманиной, пообедав в студенческой столовой (он не любил великосветского тона родительской квартиры), пришел домой около пяти часов вечера, чтобы отдохнуть и вечерком еще, может быть, немного заняться, и позвонил в электрический звонок, ему никто не открыл. Он знал, что сегодня домработница выходная. Она всегда работала по воскресеньям, потому что в воскресенье и отец обедал дома да часто заходили и члены избранного аристократического кружка, некоторым из которых, к сожалению, пришлось пойти на советскую службу.
Итак, за воскресенье работница получала выходной в какой-нибудь удобный обеим сторонам день недели.
Именно сегодня она была выходная. Но мать должна была быть дома. Она почти никогда и никуда не выходила. Молодой Куманин, чертыхаясь, вытащил из кармана целый набор ключей, которые он должен был всегда носить с собой. Ключей было столько же, сколько замков, и каждый ключ поворачивался медленно и тяжело. Открыть эту бронированную квартиру было очень не просто. Все-таки наконец все замки были отперты. Куманин открыл дверь, вошел и сразу понял, что квартира ограблена. В толстой кирпичной стене, отделявшей переднюю от соседней квартиры, был тайник, запертый стальной дверцей и оклеенный снаружи обоями. Этот тайник был взломан, очевидно топором или ломом, потому что замок был весь перекорежен, стальная дверца оставлена открытой настежь, а все ценное из тайника вынуто. Он прошел по квартире и всюду видел такие же следы разрушения. Некоторые тайники он знал и раньше, а о некоторых узнал только сейчас, когда они были открыты и опустошены. Войдя в столовую, он увидел труп фокстерьера. Собаке проломили голову топором или ломом, может быть тем же самым, которым вскрывали стальные дверцы. Матери не было нигде. Невозможно было понять, как же она впустила каких-то чужих людей, когда всегда с такими колебаниями открывала дверь даже знакомым.
И потом, где она сама?
Он увидел ее в ванной. Она лежала мертвая, задушенная солдатским ремнем...
Дело об убийстве Куманикой было передано старому, авторитетному сыщику Николаю Емельяновичу Свиридову. Это был пожилой человек, один из лучших уголовных сыщиков царского времени, много лет служивший инспектором сыскной полиции. Ни к какой политике Свиридов отношения не имел, с охранкой связан не был, а просто был знающий и способный мастер уголовного розыска.
В советское время работал он честно и добросовестно, дело свое знал досконально, раскрыл много серьезных преступлений и многому научил молодых людей, которым приходилось осваивать заново трудное искусство сыска.
Свиридов взялся за дело с увлечением. Дело было действительно интересное. Многое было просто невозможно понять. Входная дверь была не взломана. Значит, Куманина открыла дверь сама. Кто же этот человек, которому она так доверяла? Преступники возились в квартире долго. Вероятно, они не знали, где тайники, в которых хранились ценности. Это было видно по тому, что они пытались проломить стены в нескольких местах, где на самом деле тайников не было. Значит, им пришлось простукивать стены, тщательно обследовать каждый уголок квартиры. На это нужно было несколько часов. Значит, они пришли утром. У Куманикой поддерживался тон светского дома старого времени. Кто же в старое время мог прийти навестить светскую даму утром? Все знакомые Куманиной были люди светские, и, конечно, нарушение кем-нибудь из них приличий было совершенно исключено. Значит, незнакомый? Почему ему Куманина открыла дверь? Проверили домработницу. Она, оказывается, на свой выходной день поехала к родственникам в Царское Село, и 2 ноября ее видели соседи и многие ее знакомые.
Короче говоря, провозившись с этим делом месяца два, Свиридов доложил начальству, что ничего сделать не может. Для него обстоятельства дела категорически непонятны.
Дело передали другому, молодому советскому работнику угрозыска, и тот без конца возился, перепроверял с начала и до конца все данные Свиридова, убедился, что все правильно, и тоже зашел в тупик. Потом этим занимался еще один следователь, потом четвертый, а потом дело положили в архив, потому что оно явно было безнадежно. Прошел двадцать третий год, шел к концу двадцать четвертый, и не только дело Куманиной, но даже и память о нем покрылись архивной пылью.
ПАРАБЕЛЛУМ В ПЕЧКЕ
Ходили сотрудники угрозыска по вечерам в игорные клубы. Именно там часто появлялись скрывшиеся от преследования бандиты, именно там часто можно было увидеть кассира, получающего маленькую зарплату и швыряющего на зеленый стол крупные деньги, и сделать из этого бесспорный вывод, что он глубоко засунул руку в государственную кассу.
И вот однажды осенью двадцать четвертого года к Васильеву подошел один его сотрудник, бывший накануне в клубе «Трокадеро».
— Вчера, между прочим, был там Август Кинго,— сообщил он.— Играл, хоть и не очень крупно. Что-то кажется мне, что собирает он старых друзей.
Август Кинго был человек, в свое время попавшийся в краже из квартиры крупного инженера, осужденный за это на не очень большой срок ввиду чистосердечного раскаяния, а также и потому, что кража не удалась, отбывший наказание и вернувшийся в Петроград.
То, что он появился в «Трокадеро», было, в конце концов, его личное дело. В Петрограде он проживал совершенно законно и мог посещать те места, какие ему хотелось. И все-таки сообщение настораживало. Можно было предположить, что Кинго сколачивает шайку для новых, более серьезных подвигов. Лучше было предупредить преступление, чем ждать, пока оно совершится.
Словом, Васильев решил посмотреть, как обстоит дело и не пришло ли время, образно говоря, погрозить Кинго пальцем и сказать, что за ним, мол, следят.
В «Трокадеро» Васильев бывал редко и не боялся, что его узнают, но беда в том, что Кинго его прекрасно знал, И тут Васильеву (напомним, что ему было двадцать четыре года) пришла в голову замечательная идея. Все сыщики, про которых он когда-то читал, без конца наклеивали бороды, усы и бакенбарды и, таким образом, оставались неузнанными. Некоторые даже одевались женщинами, и это тоже не вызывало никаких подозрений. Чем они, работники советского уголовного розыска, хуже? Он доложил о своем плане по начальству. Начальство посмотрело на него с сомнением и покрутило головой.
— Что-то я никогда про такое не слышал,— сказало начальство.— Вроде бы это только в книжках бывает. Ну, да, впрочем, попробуй. Беды тут нет.
Для такого важного случая Васильев решил, что ехать в «Трокадеро» надо вдвоем. Товарищ, которого он выбрал для этого похода, был моложе его на два года и увлекся планом ужасно.
Решили обставить все по первому классу. Из Александрийского театра вызвали самого лучшего гримера, и тот приклеил Ивану Васильевичу небольшую бородку клинышком и маленькие усики на верхней губе. Товарищу Васильева, наоборот, приклеили на верхней губе большие пушистые усы. Оба они долго любовались друг другом, смотрелись в зеркало и пришли к выводу, что они откроют сегодняшним походом новую страницу в истории советского уголовного розыска. Чтобы грим как-нибудь не пострадал в трамвайной толчее, они взяли машину и оставили ее квартала за два до игорного клуба. Уже подходя к сверкающему огнями входу в «Трокадеро», Васильев вспомнил, что в суматохе он забыл папиросы. В то время Петроград, как и другие города страны, был населен шумным племенем папиросников. Беспризорные и безнадзорные дети торговали папиросами поштучно и наживали на каждой коробке несколько копеек. Характер у этого народца сложился бойкий и предприимчивый. Это были ближайшие родственники парижских гаменов, острые на язык, любящие посмеяться, нахальные и веселые. Вот к одному из таких папиросников и подошел Васильев. Он протянул ему деньги и собирался отсчитать из коробки десяток папирос «Сафо», но папиросник смотрел Ивану Васильевичу в лицо широко открытыми любопытными глазами.
«Что он смотрит?» — удивленно подумал Васильев.
Папиросник повернулся к своему товарищу, стоявшему тоже с папиросами в нескольких шагах, и заорал громким голосом, разнесшимся по проспекту и по ближайшим переулкам:
— Петька, гляди сюда, у дяденьки борода приклеена!
Поняв, что дело с гримом безнадежно провалено, раз первый же папиросник в уличной полутьме сразу заметил приклеенную бороду, сыщики, то чертыхаясь, то смеясь, добрались до машины и уехали обратно в угрозыск.
Таким образом, новая страница в историю советского уголовного розыска вписана не была.
На следующий день Васильев отправился в «Трокадеро» уже без бороды и без всякого грима.
Он замешался в толпе и скоро увидел у рулетки хорошо знакомого ему Августа Кинго. Издали Васильев долго наблюдал за ним. Кинго играл азартно, хотя внешне и сохранял спокойствие. Только по тому, как внимательно следил он за шариком рулетки, можно было понять, что в нем бушует страсть игрока.
Ему не везло. Крупье забирал у него ставку за ставкой и, улыбаясь, опускал в щель, проделанную в столе. Видно, все-таки Кинго сохранил немного хладнокровия. Он отошел от стола, проиграв не все деньги, и пошел в ресторан. Он был хорошо одет, фигура у него была спортивная, плечи широкие, лицо спокойное. Вслед за ним несколько человек из толпы тоже стали протискиваться к ресторану. Через несколько минут Васильев заметил, что эти люди, ничем не показавшие раньше, что они с Кинго знакомы, сидели с ним за одним столом.
«Э,— подумал Васильев,— дело варится».
День за днем, внешне спокойный, эстонец Кинго сидел за столом, но проигрывал понемногу. Значит, преступление еще не было совершено. Денег у Кинго было мало. Васильев справился в адресном столе. В адресном столе Август Кинго не значился. Значит, он или не успел прописаться, или и не думал прописываться. Если не успел — хорошо, а если и не думал — значит, вынашивает какой-то план. Короче говоря, однажды, уже под утро, когда Кинго вышел из «Трокадеро» и усталый пошел домой, за ним пошел Васильев. Шел он по другой стороне улицы, довольно далеко сзади, и незамеченный прошел до того дома, в подворотню которого Кинго свернул. В те годы в Петрограде ворота на ночь запирались, и человек, пришедший после двенадцати часов ночи и разбудивший дворника, должен был, по решению Петро-совета, платить ему десять копеек. Книго позвонил; когда дворник отпер калитку, дал ему гривенник и прошел во двор. Через десять минут, время, достаточное, чтобы Кинго поднялся в свою квартиру, позвонил Васильев. Он показал дворнику удостоверение, и дворник объяснил ему, что человек, вошедший во двор десять минут назад, снял комнату у одной старушки, у которой двухкомнатная квартира, и не прописался, потому что проживет, говорит, недолго — недели две с половиной, а потом уедет в Гдов. В Гдове и вокруг него живет много эстонцев, и ему приятно будет жить среди своих соотечественников.
— Как его зовут? — спросил Васильев.
— Эрхорс Виборг,— с трудом произнес дворник. Он не очень-то разбирался в этих нерусских именах и фамилиях.
Пока Васильев ехал в угрозыск, пока выписывали ордер на обыск и на арест, пока будили шофера, пока приехали, было уже часов десять утра. Надеялись, что Август еще спит. Все-таки лег он под утро. Взяли управдома и дворника понятыми, постучали в квартиру. Старушка открыла беспрекословно и указала на комнату Кинго. Комната была заперта. Долго стучали. То ли Кинго действительно крепко спал и никак не мог проснуться, то ли за это время он, бесшумно бегая по комнате в одних носках, пытался что-то спрятать.
Наконец, когда Васильев сказал: «Если не откроете, будем ломать дверь», Кинго сделал вид, что проснулся, долго будто бы не мог понять, кто пришел и по какому делу, и наконец открыл дверь.
Обыскали самого Кинго. Ничего предосудительного не нашли. Обыск в комнате занял немного времени. В комнате стояли только кровать, два венских стула, чемодан и маленький шкаф. В шкафу висел на распялках , выходной костюм, в котором Кинго ходил в «Трокадеро». В чемодане лежало белье, на подоконнике стояло небольшое зеркальце. Была еще печка. Васильев открыл дверцу и заглянул в нее. Он великолепно видел, что зола возвышается слишком высокой горкой. Он уверенно предположил, что эта горка скрывает, конечно, револьвер. И все-таки он спокойно закрыл дверцу, как будто ничего не заметил.
— Оружие есть? — спросил Васильев, понимал,
— Чтобы! — удивился Кинго.— Какое у меняору-жие?
После того как Васильев закрыл печную дверцу Книго почувствовал себя гораздо увереннее. То, что он жил без прописки, беда была небольшая, и он понимал, что в худшем случае отделается небольшим штрафом. Обыск быстро закончился, дверь комнаты запечатали, Кинго повезли в угрозыск.
— Ну, Август,— сказал Васильев, — рассказывайте, какое дело готовите.
— Я? — удивился Кинго.— Я, гражданин Васильев, скажу вам, попробовал заниматься непозволенными делами, попался, отсидел и решил, что больше не буду. Значит, уголовник из меня не получится, если я на первом деле попался. Придется быть честным.
— Ай, Август, Август,— покачал головой Васильев.— Что же, вы хотите меня убедить,что дело, на котором вы попались, первое ваше дело? Вы же неглупый человек. Ну подумайте сами, кто вам поверит?
— В чем попался, в том виноват,— сказал Кинго,— а в чем не попался, в том не виноват.
— Хорошо,— сказал Васильев,— довольно об этом. Так какое же вы готовите дело?
— Я уже сказал, перехожу на честную жизнь.
— Эх, Кинго, Кингої — Васильев сокрушенно покачал головой—Хотел я для вас лучше сделать. Думал, откроете вы какое дело готовите. Поскольку преступление не совершено, мы бы вам и обвинения не предъявляли. И стали бы вы действительно человеком честным. А вы мне голову начинаете морочить. Ну разумно ли это?
— Я вас, гражданин следователь, не понимаю,— обиделся Кинго.— Я думал, что уголовный розыск разбирает факты. Я думал, что уголовные романы пишут пиратели, а не работники розыска. Честное слово, обидно! Человек раскаялся, отбыл наказание, решил начать трудовую жизнь, и вдруг на тебе, нелепые подозрения, обыск, арест.
— Значит, думаете уехать в Гдов? — спросил Васильев.
— И это знаете? Ну что ж, да, не скрываю. Думаю уехать в Гдов. Может быть, там не будут про меня фантазировать, незаконно обыскивать и задерживать.
— А револьвер зачем? — очень тихо спросил Васильев.
— Какой револьвер? — также тихо спросил Кинго.
— Который в печку спрятали и золой засыпали. Кстати, засыпать золой револьверы вредно. Если бы мы его не нашли, пришлось бы вам здорово повозиться, пока бы вы его отчистили.
Час бился Васильев. Ему хотелось, чтобы Кинго сознался сам. Он думал, что, может быть, и получится из Августа честный человек но Кинго упирался до конца. И дела он никакого не готовил, и револьвера у него никакого нет, и вообще, он человек, глубоко осознавший свои ошибки и твердо решивший вести трудовую жизнь.
— Ну что ж,— грустно сказал Васильев, увидев, что Кинго не переубедишь. — Поедемте, покажу вам ваш револьвер.
Снова сели в машину, снова поехали на квартиру Кинго. Взяли понятых, сняли печати, открыли комнату, открыли печную дверцу, вынули из-под золы большой парабеллум.
— Вот видите, Кинго,— сказал Васильев, —так бы у вас чистосердечное признание было, а теперь, я думаю, вы и сами понимаете, что за хранение оружия штрафом вы не отделаетесь.
Снова поехали в угрозыск, снова прошли в кабинет Васильева. Сели на диван. Васильев попросил уборщицу принести из буфета два стакана чаю и граммов двести печенья. Снова повели разговор.
Кинго был теперь подавлен. От прежнего его гонора и следа не осталось. Только что вышел из тюрьмы, и придется опять садиться. Ох, как теперь он жалел, что вовремя сам не рассказал о парабеллуме! Если бы рассказал, может быть, учли бы. Может, дали бы условно. А теперь тюрьмы не миновать.
Этот разговор ничем не походил на допрос. Сидели два человека на диванчике, попивали чай, грызли печенье и разговаривали негромко и внешне дружелюбно, будто просто два товарища сошлись почаевничать и поболтать.
— Вы поймите, Кинго,— говорил Васильев,— я ведь стараюсь сделать для вас лучше. Дело, которое вы задумали, все равно не удастся. Вы будете сидеть за хранение оружия, товарищей ваших мы заметили, когда они с вами за одним столом в ресторане сидели, и теперь уж из виду их не выпустим. Если вы сейчас все откровенно расскажете, мы их, может быть, и задержим, даже наверное задержим, но для того только, чтобы объяснить,, что мы за ними следим и идти им на преступление нет никакого смысла. А если вы упретесь, промолчите, мы их поймаем в чужой квартире, с оружием, тогда будет уже ограбление со взломом. Честное слово, молчать вам сейчас даже по отношению к ним недобросовестно.
Кинго слушал, вздыхал и наконец сказал:
— Пишите.
Кинго рассказал, что собирался ограбить квартиру крупного ученого и подобрал себе помощников, что они узнали распорядок дня в семье и достали план квартиры. Кинго думал, что его арест не помешает предприятию, соучастники и без него управятся. Действительно, товарищи его попытались ограбить квартиру, были задержаны и осуждены на небольшие сроки. Кинго тоже был за хранение оружия осужден на несколько месяцев заключения. Отбыв их, решил, что уголовные преступления ненадежный способ заработка и чаще приводят к тюрьме, чем к богатству, а поняв это, поступил на бухгалтерские курсы и, насколько знает Васильев, больше никогда ни в чем дурном замешан не был.
Рассказали мы о Кинго потому только, что, после того как протокол был подписан и Кинго должны были отвести в тюрьму, он горестно покачал головой и сказал:
— Нет, несправедливо устроен мир! Вот я хотел разбогатеть и второй раз вместо этого попадаю в тюрьму, а князь берет сотни тысяч и гуляет себе на свободе.
КАК ОБСТОИТ ДЕЛО С КНЯЗЬЯМИ
Сначала как-то Васильев не обратил на эту фразу внимания. Он поздно пришел домой, лег и заснул как убитый. Но и во сне почему-то казалось ему, что в ушах звенит слово «князь». Проснулся он рано, и первой его мыслью была мысль: что же все-таки это за «князь» такой? Он стал спокойно рассуждать. Что значит слово «князь»? Во-первых, «князьями» почему-то с давних времен называют людей, занимающихся скупкой и перепродажей старья. В то время по глубоким петербургским дворам-колодцам ходили старьевщики и громким, певучим голосом не то выкликали, не то распевали нехитрую и не очень грамотную фразу: «Старьем берем!» Они скупали стоптанную обувь, изношенную одежду, все то, от чего каждый рад избавиться, особенно если получит за это хоть несколько копеек. Скупленное старье они сортировали, старую обувь продавали сапожникам на заплатки, одежду ремонтировали и дешево продавали при* езжающим из деревни крестьянам. В общем, небольшую выгоду они получали. Вот именно за то, что их заработки были невелики, за это, наверно, в шутку и дали им прозвище «князь».
Второе: «князь» могла быть воровская кличка. Каких только кличек не дают уголовники! Каждая кличка пристает к человеку, если не навсегда, то очень надолго. Может быть, «князь» — это просто какой-нибудь вор, которого так окрестили по совершенно случайной причине.
Наконец, «князь» — это высший дворянский титул. Все княжеские фамилии известны наперечет. Многие из них стали князьями с таких давних времен, что даже и не понять, когда, собственно, получили они этот титул. Многие княжеские роды обеднели, в каждом роде были младшие линии, наследовавшие титул, но не наследовавшие богатства, захиревшие, ведущие скромную, иногда даже бедную жизнь. Многие из них не любили и вспоминать о своем княжеском происхождении, отбрасывали титул и с течением времени даже забывали, с какими знатными, богатыми людьми находятся они в родстве.
Интересно все-таки, какой же это «князь» взял сотни тйс*ч? Это должно было быть прогремевшим преступлением. Или же, конечно же, нераскрытым. Иначе Кинго не завидовал бы этому неведомому «князю».
Интересная получалась задачка. Васильев, не допив чаю, помчался в угрозыск.
«Князь, князь...— думал он.— Что же это за князь такой? Скорее всего, конечно, уголовная кличка. Старьевщики редко бывают замешаны в грабежах. Среди настоящих князей, конечно, масса мерзавцев. Но, во-первых, большинство из них в эмиграции, а во-вторых, те, что остались, выродившийся народ». Он вспомнил князя Долгорукого. Ну можно ли себе представить, что этакий безвольный, слабый и глупый князь совершит ограбление и возьмет сотни тысяч? Нет, надо искать среди уголовников.
К этому времени энтузиаст криминалистики Алексей Андреевич Сальков уже начал составлять заново картотеку преступников. Картотека эта росла с каждым днем. На каждой карточке были записаны фамилия, имя и отчество, приметы, преступления, в которых он был замешан, и обязательно кличка, если, конечно, она была. Васильев просидел весь день, просматривая картотеку. «Князей» оказалось довольно много. Видно, кличка эта имела широкое распространение. Были «князья» двенадцати-тринадцати лет, беспризорники, стащившие белье с чердака или вытащившие кошелек у зазевавшейся домохозяйки. Трудно предположить, чтобы кто-нибудь из этой мелюзги сумел взять несколько сот тысяч. Был и старый «князь», когда-то вскрывавший стальные сейфы, но давно ушедший на покой и в последние годы ни в чем плохом не замеченный. Ему было восемьдесят два года, и ценности на такую огромную сумму он, наверно, просто нс смог бы унести. Была «княгиня», поступавшая домработницей в богатые дома и открывавшая дверь квартиры бандитам. Но речь шла ведь о «князе», а не о «княгине». К вечеру Васильев убедился, что ни один «князь», зарегистрированный Сальковым, не мог совершить такое крупное преступление. Может быть, тот «князь», которого он ищет, еще не занесен в картотеку? Может быть, этот человек только что совершил свое первое преступление и пройдет время, пока он будет описан и зарегистрирован Сальковым?
Васильев поехал по отделениям милиции. Там прежде всего регистрировались преступления, совершенные в районе, и преступники, их совершившие. Тут «князей» было полным-полно. Был один «князь» на деревянной ноге, алкоголик, шатающийся по пивным и за стопку водки отгрызающий край у стакана. Он несколько раз попадался при попытке украсть со стойки пивной забытую шапку или залезть в карманы заснувшего собутыльника, но работники милиции твердо были уверены, что никакие стотысячные дела ему и в голову не приходили. Был даже «князь», ему шел одиннадцатый год, ловкий карманник, которого милиция регулярно отправляла в детский дом и который столь же регулярно из детского дома убегал. Были «князья», давно сидящие за решеткой, были «князья»-спекулянты, «князья»-алкоголики, «князья»-карманники, но не было ни одного «князя», который мог бы пойти на дело, дающее сотни тысяч рублей.
Что касается старьевщиков, то в подавляющем своем большинстве уголовными делами они не занимались. Из поколения в поколение передавали они свою специальность. Они могли обмануть человека и купить за грош дорогую вещь или продать задорого рванье. Самое большее, на что они решались, это, случайно попав в открытую квартиру, унести пальто с вешалки, а грабежи, крупные кражи, налеты, словом, серьезные уголовные преступления были не их специальностью.
Оставались настоящие титулованные князья. Но, во-первых, их было очень мало. Во-вторых, их было трудно найти. После семнадцатого года титулы стали в России не в чести, и от титула человек мог ждать только неприятностей. Поэтому в подавляющем своем большинстве наследники громких титулов скрывались и утверждали, что они происходят из самых недр пролетариата и беднейшего крестьянства.
Словом, дело с князьями обстояло очень плохо.
Васильев решил начинать с другого конца. Сотни тысяч— это очень большие деньги. Конечно же, ограбление на такую сумму было если и не раскрыто, то, во всяком случае, известно и в меру возможности расследовано. Васильев начал листать сданные в архив дела.
Грабили в то время много. Новый, советский уголовный розыск только входил в силу, только осваивал настоящее умение. С другой стороны, Россия только приходила в себя после империалистической войны, после революции, после гражданской войны и разрухи. Появилось огромное количество людей деклассированных, скрывающихся, не имеющих работы. Старые, опытные преступники, рассчитывая на слабость молодого уголовного розыска, прибирали к рукам безработных и беспризорных, людей, скрывающих свое прошлое, и людей, не имеющих будущего. Бывшие богачи прятали в квартирах утаенные остатки своих богатств. Люди, действительно потерявшие богатства, стремились любыми способами разбогатеть снова. Они скоро сообразили, что выгодно сообщать ворам, у кого из их друзей припрятано золотишко или валюта, и получать за это процент добычи. Да, грабили много. Васильев листал ежедневные донесения, которые концентрировались в уголовном розыске, и много было там сообщений об ограблении квартир и магазинов. Но самая большая сумма, в которую оценивалось награбленное, была двадцать или тридцать тысяч. Это тоже были очень большие деньги, но Кинго ведь говорил о сотнях тысяч.
Перелистал Васильев и дело об убийстве Куманиной. Он и раньше слышал о нем и вспомнил его, когда стал перебирать в памяти все нераскрытые преступления, которые мог совершить этот таинственный князь. Он вспомнил и забыл, потому что там сумма награбленного была как будто тридцать тысяч. На всякий случай он перелистал дело. Сын Куманиной сказал, что он не знает, сколько было у матери денег, но думает, что много. Муж Куманиной, владелец мучного лабаза, сначала утверждал, что тысяч на десять было ценностей, не больше, потом с колебанием согласился, что, может быть, и на двадцать, потому что у жены, мол, сохранились кое-какие камешки, а под конец согласился, что, может быть, и на тридцать. Это, конечно, не сотни тысяч, но все-таки... Васильев обратил внимание на разницу цифр. Сперва Куманин называет десять тысяч, а потом соглашается на тридцать. Даже по протоколу допроса кажется, что он как бы торгуется со следователем и старается доказать, что похищено было не так уж много. Казалось бы, он действует вопреки собственным интересам. Представьте себе, что похищенные ценности найдут и оценят в двести тысяч рублей. Значит, по-видимому, Куманиной принадлежит только часть, а остальное награблено в другом месте.
Но представим себе другое. Представим себе, что часть ценностей была, например, в валюте. Может быть, даже в валюте, выпущенной где-нибудь в Англии или Америке уже после революции. Скупка валюты запрещена, значит, Куманину придется за эту валюту отвечать. С драгоценностями тоже не так просто. Если Куманина сохранила свои драгоценности, то ладно. А если она скупила их? На какие деньги? Очевидно, на доходы с мучного лабаза. А если муж утаил эти доходы от фининспектора? Лабаз принес за год по документам двадцать тысяч, а драгоценностей куплено на сто.
Можно же представить себе, и это будет вполне логично, что Куманин сознательно преуменьшал сумму ограбленного. Найдут ли грабителей или не найдут — это еще вопрос, а пока что придется самому отвечать. Может быть, наконец, и совсем другое. Куманина была, видимо, женщина деловая и энергичная. Она могла совсем не посвящать мужа в свои финансовые операции. И сын и муж говорят, что у Куманиной был очень узкий кружок знакомых. Вот, может быть, именно среди них и был какой-то человек, через которого Куманина производила свои операции. Вполне вероятно, что она собиралась уехать за границу. Сын, по-видимому, был ей совершенно чужой. Он был человек склада научного, а не коммерческого. Муж увлекся своими мучными лабазами. Может быть, хитрая женщина решила набрать как можно больше валюты и драгоценностей, переправить их каким-нибудь тайным способам за границу, потом выхлопотать себе разрешение на выезд, в то время это было нетрудно, и мирно уехать к ожидавшему ее там богатству.
Короче говоря, перелистав дело, Васильев решил: вполне возможно, что именно у Куманиной взял таинственный князь эти таинственные сотни тысяч. Члены узкого кружка, с которыми вела знакомство и даже дружбу Куманина, были перечислены и мужем и сыном. Конечно, все это были дворяне. Был там какой-то барон, был даже какой-то граф, правда из захудалых, но князя, как назло, не было ни одного. Все члены этого кружка были тщательно допрошены Свиридовым. По протоколам было видно, что непричастность каждого к этому делу была бесспорно доказана. Один был в это время в больнице— к делу была подшита справка. Другой служил и весь этот день был на службе, и это тоже подтверждалось справкой. Третий ездил в Кавголово и ходил на лыжах, потому что он, хотя человек и немолодой, всегда увлекался лыжным спортом. Пять человек свидетельствовали, что он действительно весь этот день провел в Кавголове. Короче говоря, Свиридов? расследовал дело добросовестно. Беда была только в одном: кто совершил убийство, осталось невыясненным.
Однако из всех дел, которые просмотрел Васильев, только у Каманиной могли быть отняты сотни тысяч, и по связям ее, по среде, ее окружавшей, только ее мог убить настоящий князь.
Васильев вызвал к себе на допрос мужа Куманиной. Пришел человек лет, наверно, пятидесяти пяти, тихий, молчаливый и очень вежливый. Странным образом в нем переплеталась придворная вежливость и достоинство с какой-то лабазно-приказчичьей угодливостью. Видно, привычки, приобретенные до революции, перемешивались с привычками, приобретенными в годы нэпа в мучном лабазе.
Да, Куманин думает, что у жены было ценностей не больше чем тысяч на тридцать.
— А может быть, на триста? — спрашивает Васильев.
— Может быть, и на триста,— вежливо соглашается Куманин.— Только если на триста, то я ничего про это не знал. Жена была женщина самостоятельная, дела вела сама и меня в них не посвящала. Мы ведь с ней были не в очень хороших отношениях. Честно вам скажу, если бы в царской России не было так сложно развестись, так я бы с ней еще до революции развелся.
— Но ведь после революции развестись несложно,— говорит Васильев.
— Все, знаете, руки не доходили. Торговля для меня дело новое, пришлось изучать. А вообще мы с ней были люди давно чужие.
Тогда Васильев, решив попробовать наудачу, небрежно спрашивает:
— Вот вы перечисляли членов этого маленького интимного кружка, собиравшегося у вашей супруги, а почему вы ничего не упомянули о князе? Там ведь был еще князь.
— Был когда-то,— хмуро соглашается Куманин.— Правда, кавказский князь. Его княжество еще надо проверить.
— И он дружил с вашей супругой?
-— Раньше бывал иногда, а года два уже я его не встречаю. Может, поссорились, может, умер. Это ведь ее все друзья, а не мои. Мои друзья в лабазах сидят. Я теперь купец, а барыня моя, видите ли, все себя придворной считала.— Куманин усмехнулся и добавил: — Смешно, право, императора нет, двора нет, а придворные, изволите ли видеть, есть.
— А как фамилия князя? — спросил Васильев.
— Вот уж чего не помню, того не помню,— решительно сказал Куманин.
ОБРАЗЦОВЫЙ ЗАКЛЮЧЕННЫЙ
Часом позже в кабинете Васильева сидел сын Кума-нина.
— Скажите,— спросил его Иван Васильевич,— почему вы не назвали князя, который дружил с вашей матерью?
Молодой человек мало был похож на отца. То есть, может быть, в чертах лица и было некоторое сходство, но насколько старший Куманин был уверен в себе уверенностью человека богатого, насколько ясно было видно, что интересуют его только дела и что после окончания гимназии он, наверно, не прочел ни одной книжки, настолько у сына было лицо умное и интеллигентное.
— Видите ли,— сказал молодой Куманин, немного смутившись,— вы только поймите меня правильно. Я совершенно лишен того, что именуется сословными предрассудками. Не знаю уж, как это получилось, но только я еще в гимназические годы был в семье чужим человеком, и вся эта суета мелкого честолюбия, которая занимала всю жизнь моих родителей, была мне смешна и неприятна. Я совершенно не вижу причин гордиться своим дворянским происхождением, тем более что когда я однажды из любопытства стал изучать наше, так сказать, родословное дерево, то убедился без труда, что дворянство у нас, можно сказать, поддельное. То есть не то чтобы совсем, но, во всяком случае, еще пятьдесят лет назад о «знатном» роде Куманиных никто и не слышал.' Я занимаюсь теорией сопротивления материалов. Это меня интересует. Сам профессор Тимошенко похвалил одну мою статью, и это дает мне надежду, что кое-чего я в своей специальности добьюсь. Как я говорил, в семье я всегда был чужим человеком. Мне всегда казались мелкими и скучными интересы отца и матери. Они это чувствовали и относились ко мне, по совести говоря... ну, скажем, холодно.
Молодой человек вдруг замолчал и очень смутился. Лицо его медленно залилось краской.
— Вы только не думайте, гражданин следователь,— сказал он,—: что я все это говорю для того, чтобы объяснить, какой я горячий сторонник Советской власти. Мои политические взгляды к делу никакого отношения не имеют. Наоборот, я считаю, что в эпоху гигантских исторических переворотов, громко говоря, преступления родителей бросают тень на детей. Я не собираюсь своих родителей проклинать и доказывать, что я в душе пролетарий. Вероятно, пороки сословия, пороки класса сказались и во мне, только, может быть, в несколько своеобразной форме.
Куманин смутился окончательно и замолчал. Васильев смотрел на него, тоже молчал и думал, какое бесконечное количество удивительных, не похожих друг на друга судеб, какое бесконечное количество конфликтов и драм рождено революцией. Вот сидит молодой человек, принадлежащий по рождению, по среде, окружавшей его с детства, к пусть не очень родовитому, но все же придворному дворянству. Он никогда не скажет, что принимает Советскую власть, не скажет потому только, что это могут принять за корыстный отказ от своих родителей и своей среды. Ему противно мелкое честолюбие, ради которого его родители всю жизнь шли на унижения, примазывались к знатным и богатым и еще гордились своей непочтенной жизнью.
Сыну интересна только наука, и он все понимает и знает про родителей, но боится сказать эту настоящую правду, чтобы не подумали, будто он примазывается к новой власти.
— Как фамилия этого князя?
— Татиев,— сказал Куманин.— Видите ли, всю эту горячую речь я произнес ради того, чтобы можно было сказать просто и коротко. Для моей матери, бог ей теперь судья, важно было, что Татиев князь. Для меня важно, что он, по-моему, человек непорядочный.
— Что же непорядочного он совершил? — спросил Васильев.
— Ну, это неважно,— сказал, опять смутившись, Куманин.— Вы, наверно, сможете сами узнать, а мне бы об этом говорить не хотелось.
— Он работает где-нибудь? — спросил Васильев.
— Раньше, во всяком случае, работал. Он, видите ли, штабс-капитан царской армии, а в советское время был назначен комендантом аэродрома.
— В Новой Деревне? — спросил Васильев.
— Да, работал в Новой Деревне.
Отпустив Куманина, Васильев сразу поехал на аэродром. Ехал он в машине и думал: что же все-таки заставляет Куманина с таким презрением относиться к Татиеву? Происхождение, с точки зрения дворянина, хорошее. Какой-никакой, а князь. Если работает комендантом аэродрома, значит, человек порядочный. Все-таки из старого офицерства на сторону Советской власти перешли лучшие. Во всяком случае, брали на работу лучших. Может быть, за всеми этими рассуждениями Куманина, рассуждениями противоречивыми, недоговоренными, стоит одно: если старый офицер пошел работать на Советскую власть, значит, он человек непорядочный. Тогда понятно, почему Куманин так и не сказал, почему он не любит и вроде бы стыдится знакомства с Татиевым. Черт их знает, этих дворян! С ними намучаешься. Много, конечно, просто мерзавцев, а многие путаются, колеблются, сами не знают, что они любят и что не любят.
На аэродроме Васильев сразу пошел к коменданту. Комната коменданта находилась в бревенчатом рубленом доме, в котором помещалась и комната, где ночевали летчики, и буфет, и еще какие-то служебные помещения. Все они были разделены дощатыми перегородками, и если в первой комнате чихнуть, то из последней доносилось «будьте здоровы».
Комендантом оказался парень лет двадцати пяти, широкоскулый, со вздернутым носом, явно не кавказского происхождения. Васильев хотел было прямо обратиться к нему «товарищ Татиев», но, увидев его лицо, замолчал.
— Вам чего, товарищ? — спросил комендант с явно не княжескими интонациями.
Васильев показал ему удостоверение, и комендант удивился.
— Что вы, товарищ Васильев,— сказал он,— у нас народ все честный, летчики — это же знаете какие ребята?
— Вы комендантом давно работаете? — спросил Васильев.
— Скоро два года.
— А до вас кто был комендантом?
— Работал тут один из бывших, Татиев, штабс-капитан царской армии.
— А сейчас он где?
— Пять лет отсиживает.
— Как — отсиживает? — Васильев даже привскочил.— За что?
— Знаете,— сказал комендант,— я уж после него пришел. Я лучше ребят позову. Тут есть старики, лучше меня знают.— Он негромко сказал:—Ребята, давайте сюда!
Негромко сказанная эта фраза была тем не менее слышна во всех углах дома, и в комнату коменданта стал набиваться народ. «Стариками» оказались молодые, здоровые парни лет двадцати шести, народ все плечистый и жизнерадостный.
Стоило назвать фамилию «Татиев», как «старики» все разом загудели. Из отдельных фраз, иронических реплик, рассказов, перебивавших друг друга, Васильев узнал следующее.
Татиев был комендантом. Сам он из бывших, штабе капитан. Будто бы даже князь. Это можно проверить, в архиве есть его анкета. Человек он был молчаливый, но службу знал. Спрашивал строго, но ребята на него не сердились. Летное дело такое, тут распускаться нельзя. Говорил мало и все по делу. Как будто не пил, во всяком случае, на службе пьяным не бывал. А тут случилась ревизия, и вдруг оказалось, что он, понимаете, по каким-то вроде фальшивым документам получал деньги и растратил, говорят, пять тысяч рублей.
Тут пошли страшные ахи и охи: подумайте только, пять тысяч! И на что ему столько денег? И жалованье ведь получал приличное. Вполне прожить можно. Тем более человек одинокий, неженатый. Детей нет.
Тут начались шутки насчет Вани, которому пять тысяч до зарезу необходимы. Ваня, оказывается, стал ухаживать за какой-то девушкой, а отец у девушки врач, она избалованная, все в ресторан да в ресторан. Ваня залез в долги, исхудал весь, а потом написал девушке, что, мол, представьте себе, переводят меня на Крайний Север, на секретнейшую работу, так что прощайте, мол, дорогая, больше мы с вами не увидимся. Ну, написал, получил зарплату, долги раздал, стал отъедаться, и вдруг, представляете, поехали в выходной компанией на острова. Ходим гуляем, пивка по кружечке выпили, и вдруг Ваня со своей девушкой прямо нос к носу.
Когда дошло до этого места, тут уже хохотали все. Сгибались от хохота. Хватались за животы. Оказалось, что Ваня, к удивлению товарищей, увидев девушку, вдруг повернулся да как бросился бежать. Девушка за ним, ребята ничего не могут понять, а он прямо через мост, только пятки сверкают. На ходу впрыгнул в трамвай и скрылся.
— В какой колонии Татиев? — спросил Васильев, когда смех затих.
Вспомнили, что было письмо из колонии, просили на Татиева характеристику. Долго искали это письмо, наконец нашли. Оказалось, что характеристику дали хорошую, потому что работал Татиев добросовестно, но в конце характеристики оговорили: если не считать, что украл пять тысяч.
Записав номер колонии, Васильев сразу поехал туда. Начальник колонии хорошо знал Татиева.
— Один из лучших заключенных,— сказал он.— Человек положительный. Мы с ним беседовали. На жизнь смотрит серьезно. Имеет планы. Работает добросовестно. Никогда никаких скандалов, ничего такого. Мы поставили вопрос о досрочном освобождении. Что ж, человек осознал ошибки, раскаялся. У него уж на счету двести восемьдесят рублей заработанных. Так он, представьте себе, попросил их перевести на счет аэродрома. Выйду, говорит, на службу поступлю, все отработаю.
— Поощрения имеет? — спросил Васильев.
— А как же? — Начальник даже удивился.— Каждое воскресенье выходной получает. И приходит всегда вовремя, трезвый. По порядку доложится, все, как надо. Знаете, военная косточка. Уважает порядок.
Васильев попросил показать ему Татиева. Пошли в слесарную мастерскую. Начальник колонии сделал вид, что показывает мастерскую начальству, и незаметно кивнул на невысокого плотного человека, стоящего у станка и спокойно и умело работающего. Васильев подошел поближе и долго стоял и смотрел, как ловко и быстро княжеские руки обтачивают какую-то деталь. Татиев работал уверенно, равнодушно посмотрел на Васильева и, ни на секунду не замедляя темпа, взял следующую деталь.
Васильев с начальником прошли по мастерской и вернулись в кабинет.
— А кто-нибудь навещает Татиева? — спросил Васильев.
— Навещают,— сказал начальник.— Он во время следствия сидел в «Крестах» и там подружился с тремя тоже подследственными. Один немец, некий Траубенберг, бывший офицер. Он теперь танцы преподает на Литейном в танцклассе. Знаете, афиши везде висят.
— У Саши Баака? — спросил Васильев.
— Во-во,— сказал начальник.— Потом эстонец один, Зибарт, и латыш Эглит.
— У меня к вам просьба,— сказал Васильев.— В это воскресенье не отпускайте Татиева. Придумайте что-нибудь. Назначьте его дежурным. Ну, словом, это вы лучше меня решите.
— А что, он замешан в чем-нибудь? — искренне удивился начальник.
— Нет, что вы,— сказал Васильев,— разве такой примерный заключенный может в чем-нибудь быть замешан? Так смотрите, ни в коем случае не отпускайте. А на той неделе я к вам заеду.
В полной темноте, окружавшей историю убийства и ограбления Куманиной, наметился некоторый просвет. Зибарт и Эглит были старые петербургские «медвежатники», то есть специалисты по вскрыванию касс. Было до революции совершено в Петербурге несколько крупных ограблений, в которых, Васильев был уверен, они участвовали. Люди эти были ловкости необыкновенной. Несколько раз их арестовывали до революции, и каждый раз их участие в преступлениях доказать было невозможно. Два раза по подозрению арестовывал их Васильев. И каждый раз улики оказывались недостаточными, и, просидев некоторое время в «Крестах» (под этим названием была известна петроградская подследственная тюрьма), они выходили на свободу, и Васильеву приходилось даже перед ними извиняться. И все-таки Иван Васильевич был убежден и в том, что до революции занимались они грабежами, и в том, что после революции продолжали заниматься тем же.
Может ли быть случайным это совпадение? Почему именно с Татиевым сдружились в «Крестах» эти специалисты по взлому и грабежам? Почему именно его они навещали в колонии? Естественно предположить, что Та-тиев привел их к Куманиной. Открыв дверь через цепочку, Куманина увидела старого своего знакомого и сняла цепочку. Вместе с Татиевым вошли еще трое: Зибарт, Эглит и Траубенберг. Вероятно, они стояли спрятавшись, пока она смотрела, кто пришел. Но, как только цепочки были сняты, все четверо вошли в квартиру. Вероятно, сразу она даже не испугалась, подумала просто, что Татиев привел своих друзей. Ну, а потом, наверное, даже крикнуть не успела. Трое, вероятно, душили ее, а четвертый убил собаку. Потом не торопясь — Татиев хорошо изучил порядки в доме и знал, что несколько свободных часов у них есть наверняка,— не торопясь они простукали стены, обыскали дымоходы и один за другим нашли все тайники. Картина складывалась очень убедительная. Только одно возражение мог привести против нее Васильев. Дело в том, что убийство произошло в среду, он это точно помнил, а отпуск в колонии давали только по воскресеньям.
ДЕЛА ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ
Васильев пошел на Литейный проспект в танцкласс Саши Баака. Сам Саша танцевать не умел, но очень хорошо одевался и, с точки зрения быстро разбогатевших нэпманов, был великолепно воспитан. Он всегда целовал дамам ручки, держал себя очень вежливо, хотя без всякой угодливости, и с большим достоинством. Среди учеников ходили таинственные слухи о его будто бы аристократическом происхождении, которое — тут рассказчик делал таинственное лицо — приходится сейчас, вы понимаете... Все догадывались, что, очевидно, Саша Баак был человек из самого высшего общества, может быть, даже не то граф, не то барон. Были люди, утверждавшие другое. Саша Баак незаконный сын великого князя, которого отец хотя и не признал, но тем не менее ввел в самый высший круг. Васильєв хорошо знал Баака, потому что некоторые уголовники считали нужным овладеть хорошими манерами и ходили к Саше в танцкласс. Поэтому Васильев и сам бывал у Саши неоднократно и несколько раз вызывал его к себе в угрозыск. Знал Васильев и то, что ни к какому великому князю Саша отношения не имел и никаким титулом не обладал. Был он до революции просто дамским парикмахером и скромное свое имя Саша переделал в роскошное Алексис. Тем не менее Васильев, бывая в танцклассе, слушал с серьезным лицом разговоры о Сашином аристократическом происхождении и иногда даже почти подтверждал его, говоря, что он тоже что-то такое слышал.
Саша в танцклассе играл роль не только владельца, но и церемониймейстера. Он любезно, с достоинством встречал гостей, обменивался с каждым двумя-тремя ничего не значащими фразами, знакомил кавалеров и дам и передавал их на руки преподавателей. Когда начинал играть рояль и пары довольно неумело, все время сбиваясь с ритма, начинали кружиться по залу, Саша благосклонно на них поглядывал, и вид у него был такой, что если бы, мол, не его общественные обязанности, так он и сам с удовольствием пошел бы танцевать. Танцевать он, однако, никогда не шел, потому что уважал танцы только как дело, которое приносит ему доход.
Васильев поздоровался с Сашей и спросил, есть ли у него в танцклассе учитель, по фамилии Траубенберг. Оказалось, что Траубенберг есть, что сейчас он ведет урок, а после урока Саша с удовольствием познакомит с ним Васильева.
— Хороший учитель,— сказал Саша.— Знаете, действительно дворянин и действительно бывший штабс-капитан. Но, к сожалению, уходит.
— Почему? — спросил Васильев.
— Уезжает за границу,—сказал с горечью Саша.— У него мать в Эстонии, так вот пишет, что хочет перед смертью повидать сына.
— А когда едет? — насторожился Васильев.
— Предупредил меня, что работает только до первого числа следующего месяца.
Васильев успокоился, вспомнив, что до первого осталось еще семь дней.
Тапер, студент консерватории, зарабатывавший у Саши Баака деньги, чтобы учиться, играл лениво и вяло. Он был действительно талантливый пианист. Ему было очень скучно играть все время одни и те же вальсы, фокстроты, танго и шимми. Ему была смешна вся эта толпа учеников с поразительным отсутствием изящества, но необыкновенно старательно выделывающих ногами несложные па всех этих модных танцев. Между танцующими скользил бывший штабс-капитан Траубенберг и на ходу, иногда даже чуть-чуть подпевая музыке, будто бы даже пританцовывая, шепотом делал указания то одной, то другой паре, а иногда командовал всем танцующим и пианисту: «Быстрее... еще быстрее... Медленно, совсем медленно...»
Штабс-капитану, наверно, исполнилось лет тридцать пять. Маленький, худенький, он двигался легко и свободно и был действительно превосходным танцором. Через пять минут, дождавшись конца музыкальной фразы, он негромко скомандовал: «Перерыв». Все остановились. Пианист опустил крышку рояля и, обретя сразу вид человека, который никакого отношения к роялю не имеет, вынул из портфеля книжку и начал читать. Он экономил каждую минуту, потому что занятия в консерватории и таперство отнимали у него все время, а он любил читать книги о музыкантах, их письма, воспоминания о них. У большинства великих музыкантов жизнь была трудная и бедная, и это утешало тапера в том, что он драгоценные часы для серьезных музыкальных занятий тратит, барабаня на рояле эти никому не нужные танцы.
Танцующие, запыхавшиеся и разгоряченные, расселись на стульях, стоящих вдоль стен, и негромко разговаривали между собой. Траубенберг, ничуть не запыхавшийся и, кажется, совсем не уставший, подошел к Саше Бааку. Саша познакомил его с Васильевым и отошел. Перерывы были временем его работы. Спокойный, серьезный, он шел вдоль стульев, отпускал комплименты, любезно, но без всякой угодливости уверял каждого, что сегодня он танцевал уже гораздо лучше, а некоторых, самых старых и выгодных учеников, даже спрашивал на ходу о домашних и семейных делах. За его спиной танцоры шептались о том, что он не то незаконный сын великого князя, не то законный сын графа. Ну, словом, сразу видно, прожил всю жизнь в самых высоких кругах.
— Вы, говорят, бросаете работу здесь? — спросил Васильев.
— Еду навестить матушку,— сказал Траубенберг,— она пишет, что плоха и хочет меня еще раз повидать. Я всегда был хорошим сыном и считаю себя обязанным исполнить ее желание. Может быть, это наша последняя встреча.
— А где ваша матушка? — спросил Васильев.
— В Ревеле,— сказал Траубенберг,— то есть теперь он Таллин. Не понимаю я этих новых названий. Почему вдруг называется Таллин?
— Надолго едете?
— Месяца через два вернусь.
— И что думаете делать потом?
— Буду преподавать танцы. Вам, наверно, покажется странным, что я, имеющий воинское звание, вдруг занялся танцами. Но дело втом, что танцы я любил всегда. Вы знаете, до революции меня даже приглашали на большие балы в Пажеский корпус дирижировать танцами. Конечно, раньше были сословные предрассудки и моя матушка была бы очень огорчена, если бы я, бросив военную карьеру, посвятил себя танцам целиком, но сейчас, слава богу, предрассудки эти уничтожены, и матушка даже пишет, что я выбрал себе хорошую профессию.
Действительно, ничего военного не было в этом маленьком, изящном человеке, который стоял перед Васильевым. Весь он был какой-то невесомый и принимал позы одна изящней другой. Принимал несознательно, не потому, что хотел показрть, какой он изящный и легкий, а просто потому, что позы эти были ему свойственны. И голос у него был слабый, и произносил он слова протяжно и хотя не грассировал, но казалось, будто бы и грассирует, и нельзя было представить его стоящим перед солдатским строем и произносящим отрывистые и четкие военные команды.
Подошел Саша Баак и подал, вероятно, какой-то не замеченный Васильевым знак. Траубенберг вдруг оживился и заскользил по паркету, проходя мимо тапера, кинул ему: «Прошу вас, мосье», и громко скомандовал всем: «Прошу вас, господа!» Тапер, с грустью закрыв интересную книгу, начал лениво играть скучные танцы, и Васильев, простившись с Сашей Бааком, вышел на улицу.
Шел дождь. Мокрые торцы впитывали и впитывали воду, и уже поверх тротуара и мостовой сверкали лужи, и город был точно покрыт черным лаком. Казалось, ни одного сухого местечка не осталось в городе. На Невском Васильев сел в трамвай и поехал к Главному штабу. Он остался на площадке, смотрел на прохожих в пальто с поднятыми воротниками, в галошах и с зонтиками, на лужи, которые покрывались грязью от все падающих и падающих с неба капель, и без конца думал и передумывал.
«Траубенберг,—рассуждал он,—кажется, ни в чем никогда не был замешан. Зибарт и Эглит старые уголовники, и вряд ли можно от них ждать, что они раскаются и начнут честную жизнь. Татиев растратил пять тысяч рублей. Это, конечно, уголовное преступление, но, может быть, результат просто слабости и неумения противостоять искушениям. Может быть, он игрок, не удержался и проиграл эти деньги. Все-таки между растратчиком и убийцей большая разница. Если Август Кинго сказал «князь» случайно или имея в виду совсем другого князя, то, в сущности, все предположения ломаного гроша не стоят. Хорошо, Татиев познакомился в тюрьме с Траубенбер-гом, Зибартом и Эглитом. После освобождения из тюрьмы они его навещали в колонии. Просто, может быть, подружились; может быть, условились, когда Татиев освободится, открыть вместе магазин или мастерскую, Значит, у них могут быть просто деловые разговоры. То, что Траубенберг едет за границу, тоже можно толковать по-разному. Может быть, обогатившись на убийстве Ку-маниной, он едет в Эстонию, зная, что денег хватит ему на bcjo жизнь. Но может быть также, что он действительно хочет навестить свою матушку и через два месяца станет снова водить хороводы у Саши Баака. Интересно, Зибарт и Эглит тоже едут в Эстонию? Если все трое едут, то это уже серьезно. Хотя, с другой стороны, что это доказывает? Едут они, очевидно, легально. Если бы они собирались тайно переходить границу, вряд ли Траубенберг так откровенно говорил бы об этом. Траубенберг, очевидно, из прибалтийских дворян. Зибарт—эстонец, Эглит — латыш. В конце концов, люди возвращаются к себе на родину. Никакого обвинения здесь не построишь. И все-таки какой-то секрет здесь есть. За границу сейчас пускают легко, но уж не так легко. Нужна валюта. В Эстонию ни с чем не приедешь. Так или иначе, поездка за границу — событие для каждого. У каждого масса хлопот — визы, пропуска, валюта,— и в это горячее время три человека регулярно ездят навещать случайного знакомого по тюрьме. Нет, не верю. Логичнее думать иначе. Награбленное разделено и как-нибудь переправлено за границу или должно быть переправлено. Эти трое едут совершенно легально. За ними хвостов нет, вина их никак не доказана, и, конечно, иностранный отдел свободно выдаст им пропуска. Кому они нужны тут, в России? Вот они и уезжают. У Татиева другое дело. Он находится в заключении, и, конечно, никто его сейчас за границу не выпустит. Чего он должен желать? Прежде всего — насколько возможно сократить срок заключения. Работает превосходно. Ни одного замечания нет. Естественно, что начальство колонии возбудит ходатайство о досрочном освобождении: человек, мол, раскаялся, человек, мол, исправился. Сидит он уже два года. Все основания думать, что через полгода его освободят. Ну, в крайнем случае через год. Тогда он или подаст заявление о пропуске, или, человек он, видно, решительный, свяжется с контрабандистами, выберет ночку потемнее и где-нибудь в районе Пскова перейдет границу.
То, что эти трое уезжают раньше, совершенно понятно. Во-первых, зачем им рисковать? Вдруг что-нибудь вскроется и их арестуют. Во-вторых, всем четверым вместе уезжать тоже рискованно. Могут возникнуть подозрения, и их в последний момент задержат. И, наконец, последнее: они там пока реализуют ценности, обеспечат Татиеву прием, если ему придется переходить границу нелегально, Татиев приедет на готовенькое».
Васильеву было двадцать четыре года. Это не очень большой возраст и не очень большой стаж был у него розыскной работы, но одно он уже знал совершенно точно: фантазировать необходимо. Без фантазии хорошо скрытое преступление не раскроешь. Самые дикие, самые неожиданные мысли, которые приходят тебе в голову, нужно продумать как следует и проверить. И все-таки только фантазия может помочь найти нужные, точные и бесспорные факты. В сущности, сейчас, перебирая все, что ему известно, он пришел к одному печальному для него выводу: факты, которые он знает, одинаково свидетельствуют и в обвинение и в защиту князя Татиева.
Иностранный отдел Петроградского исполкома помещался через несколько комнат от Васильевского кабинета. Раздевшись, Васильев торопливо прошел туда. Траубен-берг? Да, подал заявление. Вызван для получения пропуска на первое число. Зибарт? Да, подал заявление. Тоже вызван на первое число. И Эглит то же самое.
— Если первого числа они получат пропуск, когда они могут уехать?
— Могут даже первого вечером. Поезд отходит в девять вечера, получат пропуска, возьмут билеты. Билетов туда сколько угодно.
Конечно, можно поступить просто. Можно поехать на квартиры ко всем трем, сделать обыск и попробовать найти что-нибудь из вещей Куманиной. Вызвать для опознания мужа и сына, и, если хоть какая-нибудь мелочь найдется, есть все основания выписывать ордер на арест.
Васильев уже протянул руку к телефонной трубке. Надо было звонить в адресный стол и узнать адреса, но в последнюю минуту он трубку не снял.
А если это люди хитрые и осторожные? Если вещи, похищенные у Куманиной, спрятаны ими у каких-то не известных ему знакомых или даже просто сданы на хранение на вокзал, а квитанция запечатана в конверт и отправлена до востребования в не известное ему почтовое отделение, на собственное имя преступника? Чего он добьется обыском? Только того, что они почувствуют опасность. Он ничего не найдет, и оснований для ареста у него не будет. Значит, неделю они будут гулять на свободе, и если, как следует думать, есть у них какие-то доверенные лица, какие-то люди, которые выполняют их поручения, то вещи Куманиной уплывут, преступники уедут за границу и, уж конечно, навсегда останутся безнаказанными.
Васильев подумал еще и пошел опять в иностранный отдел. Он решил, что все трое будут задержаны, когда придут за пропусками и когда им останется только несколько часов до поезда в Таллин.
Каждый день кто-нибудь из сотрудников угрозыска, как будто случайно, заглядывал к Саше Бааку. Кружились неуклюжие пары, с достоинством любезничал Саша, скользил между танцующими изящный, спокойный Трау-бенберг. За квартирами Зибарта и Эглита тоже было установлено наблюдение. Когда кто-нибудь из них выходил на улицу, его пропускали, но, если бы он шел с чемоданом, приказано было за ним следить и в крайнем случае задержать. Зибарт и Эглит жили как обыкновенно. По вечерам сидели обычно вдвоем где-нибудь в ресторане, пили очень немного, уходили рано, прогуливались по Невскому; словом, ничего подозрительного в их поведении не было. Тридцатого числа, накануне дня, когда они должны были получить в иностранном отделе пропуск, накануне того дня, когда, как предполагал Васильев, они собирались уехать, они зашли к Бааку, дождавшись конца занятий, забрали Траубенберга и поехали в колонию к Татие-ву. Свидание было такое же, как обычно. Начальник колонии слышал, что они смеялись, шутили, только на прощание расцеловались и долго трясли друг другу руки. В этом ничего особенного не было. Люди уезжают за границу и, стало быть, долго не увидят князя. Тридцатого же Васильев пошел к начальству и взял три ордера на обыск и арест. Первого числа с самого утра в одной из комнат иностранного отдела сидел Васильев и ждал гостей. Ордера лежали у него в кармане. Как он и предполагал, гости пришли рано. Часов в десять утра, как только началась выдача пропусков, все трое стояли уже у стола сотрудника, выдававшего пропуска. Сотрудник, спокойный и вежливый молодой человек, извинился, сказав, что их пропуска на подписи у начальства и что лучше всего пусть они сами пройдут к начальнику. Он при них же и подпишет. Сотрудник указал на дверь комнаты, в которой сидел начальник.
Они вошли все трое совершенно спокойные, ничего плохого не ожидая, но, когда увидели Васильева, лица у них изменились.
Васильев предложил им сесть.
— За границу едете? — спросил он их любезно.
— Мы с вами, если не ошибаюсь,— немного растягивая слова, сказал Траубенберг,— встречались в танцевальном зале?
— Совершенно верно,— кивнул Васильев.
— Так я же вам тогда рассказывал, что матушка моя, женщина пожилая и слабого здоровья, просит меня приехать к ней повидаться.
— Рассказывали,— согласился Васильев.
Внешне все трое были по-прежнему спокойны. Могло ведь быть и так, рассуждали Зибарт и Эглит, раньше работал Васильев в уголовном розыске, а теперь в иностранном отделе. Может быть, тут ничего особенного нет. Подпишет он им пропуска и отпустит. Мало ли что он их подозревал, когда арестовывал в прошлый раз, ведь отпустил же. Значит, подозрения не подтвердились.
Васильев долго молчал. Потом Зибарт спросил:
— Наши пропуска у вас?
— У меня,— сказал Васильев,— но я хочу сначала с вами поговорить кое о чем. Дело в том, что вскрылось наконец дело об убийстве Куманиной.
Ничто не изменилось. Все трое по-прежнему были спокойны, никто не вздрогнул, никто даже, кажется, не удивился неожиданному повороту разговора. И все-таки Васильев почувствовал, как напряглись, как насторожились все трое. Теперь он внутренне был уверен: да, они убили Куманину. Уверенным быть хорошо, но, к сожалению, этого мало. Надо еще доказать виновность. Прошел год. Вещи убитой могли быть проданы, могли быть контрабандой переправлены за границу. И какие у Васильева доказательства, если ни у кого из них не будут найдены вещи Куманиной? Придется извиниться за арест, придется извиниться за обыск, придется вручить всем троим пропуска за границу.
— Так как же, граждане? — спросил Васильев.
Зибарт был полный, даже тучный человек. Васильев видел, как медленно наливается у него кровью лицо. Он откинулся на спинку кресла и закинул ногу на ногу. Он сидел развалившись и смотрел на Васильева с яростью.
— Ой, как ты мне надоел, гражданин Васильев! — сказал он громко, не боясь, очевидно, что каждое слово будет слышно в коридоре.— Что ты ко мне привязался? Раз сажаешь в тюрьму, шьешь мне какое-то дело, о котором я никогда не слышал, держишь в тюрьме, потом выпускаешь:—сам видишь, что нет оснований держать. Ну хорошо, я думал, отвяжешься. Решил за границу уехать. За границей, думаю, хоть не увижу гражданина Васильева. Подал заявление в официальное место, в иностранный отдел, как полагается по закону. Иностранный отдел видит — нет оснований задерживать Зибарта, дадим ему пропуск, пускай едет. Опять приходит Васильев, начинает устраивать шум. Не хочу я видеть тебя и говорить с тобой. Посадишь опять в тюрьму, продержишь два месяца и отпустишь. Ведь это что же такое получается? Сумасшедший придумывает какие-то глупости, а я за них отвечай! Отпусти ты нас за границу, как положено по закону. Не желаю я дело иметь с советским угрозыском! Завтра тебе еще десять убийств в голову придут, и я за всех убийц в ответе. Я жаловаться буду, Васильев, ты у меня вот где сидишь! — И Зибарт показал на горло. Мол, поперек горла ты у меня.
— Зря волнуетесь, гражданин Зибарт,— спокойно ответил Васильев.— Если я противозаконно действую, я за это отвечу. И все-таки вы мне скажите, как вы убили Куманину и где находятся ценности, которые вы у нее забрали.
Зибарт задохнулся от ярости. Он развел руками, показывая, что он не в силах продолжать разговор. Тогда, растягивая слова и как будто бы даже грассируя, заговорил Траубенберг.
— Гражданин Васильев,— сказал он,—у меня матушка в Ревеле, то есть в Таллине, почтеннейшая старушка, предки мои переселились в Прибалтику из Германии вскоре после ливонских войн. Если я вам покажу свою родословную, вы увидите, что все мои предки были исключительно порядочными людьми. Я с большим уважением отношусь к моей матушке и ко всем пожилым дамам вообще. Неужели вы думаете, что я мог бы пойти на убийство пожилой дамы?
— Почему вы думаете, что она была пожилая? — быстро спросил Васильев.
— Я так понял по вашим словам.
— Я ничего не говорил о возрасте Куманиной.
— Ну, дамы вообще! — крикнул Траубенберг.— Я всегда был рыцарски вежлив с дамами. Как я мог позволить себе что-нибудь невежливое!
Траубенберг встал с дивана, на котором сидел в почтительно-выжидающей позе. Теперь в его позе было что-то патетическое. С балетным изяществом он простер к потолку свои маленькие, женственные руки. И, глядя на него, не из-за пафоса, с которым он говорил, а из-за того, каким он казался бессильным, женственным, безукоризненно воспитанным, Васильев усомнился в том, что этот деликатный, женственный человек, который, казалось, и муху не может обидеть, затягивал солдатский ремень на шее у пожилой дамы.
Но тут же вспомнил Васильев странную его оговорку: откуда знает он, что Куманина пожилая, если никогда о ней не слышал?
— Почему вы волнуетесь, граждане? — спросил Иван Васильевич удивленно.— Во-первых, все совершенно законно. Ваш отъезд задержится не больше чем на сутки, конечно, если я неправ. Сейчас мы у всех вас произведем обыск в присутствии мужа и сына Куманиной. Если у вас не будет найдено ничего из ее вещей, вы вечером будете освобождены, а завтра получите пропуск и уедете. Ну, а если ее вещи будут найдены, так у вас тем меньше оснований сердиться. Согласитесь сами, что это наводит на подозрение и что оснований для ареста у меня будет более чем достаточно.
Эглит, худощавый латыш с бесцветными ресницами и рыжеватыми волосами, спросил, удивленно разведя руками:
— Но, господин Васильев, я не скрою от вас, что, собираясь уехать, мы все трое покупали на толкучке некоторые, может быть, немного и ценные вещи. Вполне вероятно, что среди купленных нами предметов было кое-что и из вещей этой женщины, которую, вы говорите, кто-то убил.
— Ну,— сказал Васильев,— если вещи Куманиной будут у вас найдены, тогда уж вам придется доказывать, что вы купили их на толкучке, а не забрали сами, убив хозяйку. И тогда вам придется несколько отложить свой отъезд.
Васильев нажал кнопку звонка. Вошли три вооруженных бойца. Зибарт, Эглит и Траубенберг с негодующим и возмущенным видом отправились в камеру ждать, пока их повезут на обыск.,
Только когда их шаги стихли в гулких коридорах старого здания Главного штаба, только тогда Васильев стал звонить Куманиным.
Он ни в чем не подозревал ни отца, ни тем более сына. Он был твердо уверен, что к убийству и к ограблению ни один из них отношения не имел. Ну, а вдруг он ошибался? Отношения в семье были, конечно, сложные и не родственные. Копила ценности, конечно, сама Куманина. Может же быть и такое, что, скажем, мужу нужны были деньги, чтобы вложить их в свои лабазы и расширить дело, а жена ему отказала. Может же быть, что Куманина скупилась для сына, не давала ему денег и сын подговорил, скажем, того же князя Татиева или старого взломщика Зибарта на ограбление. По правде сказать, это не похоже ни на отца, ни тем более на сына. Но в жизни бывают разные, самые неожиданные случаи. А разве Траубенберг похож на грабителя и убийцу? Разве похож на убийцу примерный заключенный князь Татиев? А если кто-нибудь из Куманиных соучастник, то, узнав, что предстоит обыск, разве не побежит он предупреждать убийц, чтобы они спрятали, сожгли или утопили все, что осталось у них из награбленного? Ведь если попадутся они, то вполне вероятно, что хотя бы из стремления смягчить свою участь могут они подробно рассказать обо всех обстоятельствах дела. Нет, Васильев Куманиных ни в чем не подозревал, и тем не менее он обязан был принять все меры, для того чтобы преступники не ушли от ответа.
Поэтому только теперь позвонил он Куманиным и попросил их срочно приехать в угрозыск. Но даже и теперь он не сказал, зачем их вызывает. Он только предупредил, что дело срочное и важное. Через час оба сидели у него в кабинете. Оказалось, что из всех трех оба они знают только Траубенберга.
— Прекрасной фамилии человек,— сказал отец.— Не думаю, чтобы он был замешан. Кроме того, он у нас никогда не бывал. Жена бы просто его не впустила.
— Фамилии, может быть, и прекрасной,— сказал очень сухо сын,— но вообще проходимец и жулик. Я бы ему руки не подал.
Васильев стал расспрашивать сына, и сын не очень охотно, он не любил говорить про людей дурное, рассказал про какую-то историю с завещанием, происшедшую еще до революции, в которой Траубенберг вел себя явно непорядочно. Отец подтвердил, что история с завещанием действительно была темная, но тем не менее Траубенбер-га принимали в очень хороших домах. Странная это была пара — отец и сын Куманины. Он, владелец лабаза, приобретший уже купеческие замашки, цеплялся за свое дворянское прошлое, все еще мыслил категориями, принятыми в узком кругу, в котором он вращался когда-то; сын, уже типичный интеллигент, с раздражением и ненавистью относился к своему аристократическому происхождению и к аристократической среде, в которой он родился и вырос.
Сели в машину и поехали к Траубенбергу. У Траубенберга была маленькая отдельная квартира. Мебель была, очевидно, продана и уже вывезена, так что стояли какие-то табуретки, какая-то солдатская кровать, которую, наверно, продать было невозможно. Траубенберг держался спокойно. Он был очень обижен несправедливыми подозрениями. У него были трагически изломанные брови и глаза выражали горечь и недоумение.
Он совсем уже собрался в дорогу. Три больших запертых чемодана стояли в передней. Васильев вежливо попросил у него ключи, и Траубенберг протянул их ему с таким видом, как будто хотел сказать: берите все, я все отдаю, но это несправедливо!
Отперли чемодан. В нем аккуратно были уложены стеганый халат, белье, маленькая шкатулочка с драгоценностями. Драгоценности тщательно осмотрели. Куманины не опознали ни одной. Открыли второй чемодан. Там было два костюма, еще немного белья. В манжетах одной рубашки были дорогие запонки с бриллиантами, и тоже Куманины отрицательно покачали головой. Этих запонок они никогда не видели. Третий чемодан был самый маленький. Там лежал кожаный несессер с серебряной мыльницей, коробочкой для зубного порошка, с хрустальными флаконами для духов и одеколона. Под ним лежали полотенца, и Васильев начал каждое полотенце разворачивать, надеясь, что, может быть, выскользнет какая-нибудь хоть небольшая драгоценная вещица, которую Куманины опознают.
Васильев очень волновался. Неужели же он ошибся и все его домыслы и предположения просто МЫЛЬНЫЙ пузырь, который сразу же лопнет? Хорошо тогда он будет выглядеть! Конечно, все трое пойдут жаловаться, будут строить из себя незаслуженно обиженных людей, начальство влепит выговор, вообще неприятностей не оберешься. Вот осталось уже последнее полотенце. Без всякой надежды, просто потому, что дело надо было довести до конца, вынул он его, развернул, но и в этом полотенце ничего не было.
Васильев собирался закрыть чемодан и признаться в своей неудаче, как вдруг увидел, что в углу на дне лежит кожаный футляр с золотой монограммой. Две буквы переплетались на монограмме — М и К. Отца зовут Михаил, фамилия Куманин. Васильев не успел даже задать вопрос, как Куманин вскрикнул:
— Моя бритва! Она в квартире на туалетном столе лежала.
Сын посмотрел на футляр и сказал:
— Да, твоя.
Еще более трагическим стало выражение лица Траубенберга. Еще более скорбно изломились его брови.
— Я купил это на Никольском рынке,— сказал он,— у какого-то спекулянта. Если мы поедем на рынок и я его встречу, я его, наверное, даже узнаю.
Траубенберга увезли в угрозыск, взяли Зибарта и поехали делать обыск к нему.
ПОРТСИГАР
У Зибарта тоже была вывезена вся мебель. У него даже кровати не было. Просто лежал на полу рваный матрац, на котором он проспал последнюю ночь. Он был человек попроще, чем Траубенберг, и у него было только два чемодана. И вещички в чемоданах были попроще и подешевле. И как их ни трясли, как их ни перекладывали, ничего куманинского не нашли. Погода была осенняя, холодная, мокрая, Зибарт был в пальто и кепке, в том самом пальто и в той самой кепке, в которой он пришел получать пропуск за границу. И все-таки выглядел он здесь, у себя в комнате, совсем не таким, каким видел его Васильев сегодня утром. Он сидел на подоконнике спокойный, недовольный нелепыми подозрениями, которые вдруг мешают ему законно получить пропуск и законно уехать. Что же изменилось в нем с утра? Утром он выглядел гораздо наряднее. Зрительная память была у Васильева точная, и ошибиться он, конечно, не мог. Пальто то же самое. И кепка та же самая. Чего же не хватает?
— Скажите, Зибарт,— спросил Васильев,— куда вы дели ваше кашне?
— А я разве был в кашне? — как бы вспоминая, спросил Зибарт.— Может быть, я его забыл в машине или потерял.
Васильев подошел к нему, быстро сунул руку в правый карман пальто и сразу же в левый. Да, в левом кармане действительно лежало кашне. Васильев его вытащил.
— Стойте! — закричал Куманин-отец.—Это мое кашне. Я узнаю, но я хочу, чтобы вы проверили. Не показывайте мне его. Посмотрите сами. Примерно сантиметрах в пяти-шести от конца есть небольшая дырочка, прожженная папиросой. Ну, посмотрите, есть или нет?
Васильев расправил кашне и внимательно его осмотрел. Кашне было вязаное, пушистое, из светло-голубого очень пушистого гаруса. Прожженная папиросой дырочка была почти не видна, но, когда кашне чуть-чуть растянули, она все-таки показалась наружу.
— Где вы купили кашне?—спросил Васильев.—У спекулянта на Никольском рынке?
— Да, у спекулянта,— сказал Зибарт.
Теперь у него был очень растерянный вид. Он, вероятно, шел в иностранный отдел, совершенно уверенный, что дело об убийстве Куманиной давно позабыто и что, конечно же, никого из Куманиных он не встретит. Да и потом, мало ли вязанных из гаруса кашне носили в то время! Прожженная дырочка? Может быть, он забыл о ней, а если и не забыл, все равно считал, что ничем не рискует. Кто же будет срывать с него кашне и осматривать, прожжено оно папиросой или не прожжено.
Отвезли и Зибарта. Поехали к Эглиту.
Васильев даже усмехнулся, когда увидел, что и у Эглита из комнаты вывезена вся мебель и стоит один большой запертый чемодан. Перерыли все вещи—их было немного, чемодан был наполовину пуст,— и не нашли ничего. Эглит спокойно смотрел, как переворачивают вещи. Он, видно, точно знал, что это безопасно.
Обыск кончился. Куманины, просмотрев тщательнейшим образом каждую мелочь, пожали плечами и отошли в сторону. Понятые — дворник и сосед по квартире — переминались с ноги на ногу, нетерпеливо ожидая, когда им скажут, что они свободны. Васильев стоял задумавшись. Вероятно, следует уезжать отсюда. Во-первых, вполне можно допустить, что убийство совершили трое — Татиев, Зибарт и Траубенберг. Во-вторых, даже если Эглит участвовал тоже, то его можно уличить показаниями других подследственных. И все-таки... Все-таки Васильеву казалось, что чего-то еще он не сделал. Ведь вот у Зибарта в чемодане тоже ничего не нашли. Один только Траубенберг сдуру сунул в чемодан бритву с монограммой. Если бы нашли только одну бритву, это действительно могло быть случайностью. Мог же человек купить на рынке вещь, принадлежавшую Куманину. Ведь грабители наверняка продают награбленное и кто-то это награбленное покупает. Если бы он не вспомнил про зибартов-ское кашне, единственная улика была бы очень сомнительна.
И как было бы хорошо, если бы у третьего тоже нашлась пусть мелочь какая-то, какой-нибудь пустяк, но несомненно принадлежащий Куманиным! Васильев посмотрел на Эглита. Нет, внешне в Эглите как будто бы ничто не изменилось. Такой же спокойный рыжеватый человек с бесцветными ресницами. Он, наверно, никогда не был франтом. Он выглядел удивительно бесцветно. Ничто в нем не бросалось в глаза. Наверно, вы могли его встречать каждый день и ни разу его не заметить. В графе «особые приметы» можно было написать: «незаметный». У него и пальто было попроще, чем у Зибарта и Траубен-берга, и пиджачок был дешевенький, и туфли такие же, как у тысяч разных людей, шагающих утром на работу и вечером— с работы домой. И кашне у него не было утром, это Васильев точно помнит, и ничто в одежде не изменилось. Иван Васильевич стал припоминать весь свой утренний разговор с этим бесцветнейшим человеком. В сущности, вспоминать особенно было нечего. Эглит и сказал-то всего одну или две фразы. Такая же была рубашка, такой же пикейный воротничок, такой же трикотажный шелковый галстучек с пропущенной под галстуком, между отворотами воротничка, дешевой цепочкой, такой, какие продаются в любом галантерейном ларьке. Что же было еще?
Эглит тогда, уже после Зибарта, тоже выразил свое возмущение незаконной, по его мнению, задержкой. Васильев очень точно себе представлял и выражение его лица, когда он говорил, и позу, в которой он сидел. Что же он сделал потом? Васильев даже вздрогнул. Конечно же, он закурил. Он вынул из кармана не папиросную коробку. Это Васильев точно помнил. Какой-то светлый предмет. Портсигар или просто белую коробочку, приспособленную под портсигар. Да, конечно, он курил. Васильев зрительно представил себе, как он стряхивает пепел в пепельницу, стоящую на столе. Почему же он сейчас не курит? Они ехали в машине минут, наверно, двадцать да здесь возятся уже, наверно, час, и он, конечно, волнуется, даже если и не виноват. И ни разу не вынул портсигара, ни разу не закурил. Может быть, у него кончились папиросы? Но тогда он попросил бы у него или у Куманина. Какой же курящий человек откажет другому курящему в папиросе! Нет, он, вероятно, боялся даже напомнить о курении. Васильев подошел к Эглиту и тоном, не допускающим возражения, резко сказал:
— Дайте ваш портсигар, Эглит.
Бесцветные ресницы замигали. Голова Эглита ушла в плечи, как будто он боялся, что его ударят.
— Портсигар! — резко повторил Васильев.— Быстро!
Эглит молчал и смотрел то на дверь, то на потолок, будто ждал, что откуда-нибудь непременно придет неожиданное спасение. Тогда Васильев сунул руки в карманы его пальто. В кармане лежал носовой платок, в другом лежала коробка спичек. «Если есть спички, должны быть и папиросы»,— мелькнуло у Васильева в голове. Он расстегнул Эглиту пальто — тот так и сидел в пальто, застегнутом на все пуговицы и с поднятым воротником,— он расстегнул пальто и сунул руку в карман пиджака. Да, портсигар был здесь. Большой, очень гладкий и тяжелый. Он вытащил его и осмотрел. Слоновая кость, и на крышке в углу золотая монограмма. Он узнал ее даже раньше, чем разобрал буквы. Такая же точно монограмма была на кожаном футляре с бритвой. Он протянул портсигар Куманину.
— Ваш? — спросил он.
— Мой,— сказал Куманин.— Между прочим, теперь такие вещи не ценят, но все-таки могу вам сообщить как исторический факт: портсигар этот мне подарил лично его императорское высочество великий князь Дмитрий Павлович. Я ценил его как подарок и потому никогда не носил. Хранился всегда дома, в безопасном месте.
И вот заполнены три протокола обыска, подписаны понятыми, и производившими обыск, и опознавшими вещи. Вопрос о пропуске за границу отпал. Обвиняемые и сами не поднимают об этом вопроса. Они недолго и сопротивлялись. Представить себе, что три разных человека купили три разные вещи на рынке у какого-то спекулянта и все эти три вещи оказались принадлежавшими раньше Куманиным... Можно, конечно, представить себе и такую версию, но слишком уж она невероятна.
Первым признается Траубенберг. Он слабый человек, этот штабс-капитан царской армии и преподаватель танцев в танцклассе у Саши Баака, бывшего парикмахера Алексиса. Он признается и рассказывает, как было дело, но, прервав сам себя, начинает сокрушаться, что его старый благородный род опозорен им первым и что в этом его благородном роду ни одного преступника, конечно же, никогда не было.
Васильева мало занимает история благородного рода Траубенбергов. Он, только чтобы утешить огорченного танцмейстера, говорит ему, что, может быть, это и так, а может быть, и не так. Может быть, у предков, если они были действительно знатны и богаты, было просто больше возможностей скрывать свои преступления. Лучше бы Траубенбергу вернуться к рассказу об ограблении и убийстве Куманиной.
Да, действительно, задумал все дело и всем руководил князь Татиев. С Траубенбергом они были знакомы и прежде. Потом у Траубенберга были неприятности с завещанием, на него наклеветали, и, к сожалению, многие поверили этой клевете, и дошло даже до того, что с ним многие перестали здороваться, в том числе, представьте себе, и князь Татиев. Потом он ничего не слышал о князе, и вдруг неожиданная встреча в «Крестах».
— Вы ведь, наверно, знаете, гражданин Васильев, меня привлекали по обвинению в похищении бриллиантов. К счастью, обвинение не подтвердилось.
— Нет,— возражает резко Васильев,— просто следователь не сумел его доказать.
Траубенберг беспомощно пожимает плечами и продолжает:
— Князь сам подошел ко мне, сказал, что он растратил казенные деньги и не видит теперь причин не подавать мне руки. Я с радостью откликнулся на этот истинно княжеский жест, познакомил его с Зибартом и Эглитом, и князь предложил нам это куманинское дело. Он сам бывал у Куманиной, она его хорошо знала и совершенно доверяла ему. Мы были освобождены, а князь 'Гатиев осужден, но он сказал, что завоюет в колонии уважение и добьется того, что его будут отпускать по выходным дням. Он сказал, что это даже хорошо, что он осужден. Он единственный из нас знаком с Куманиной, значит, единственный, на кого может пасть подозрение, но как раз у него великолепное алиби, потому что он сидит в исправительной колонии, то есть за решеткой.
— Как он добился того, что его отпустили не в воскресенье, а в среду? — спрашивает Васильев.
— У них в колонии,— поясняет Траубенберг,— каждое воскресенье несколько человек оставались дежурными, и им за это дежурство давали отпуск, если они, конечно, заслуживали отпуска, в другой день. Князь знал, что домработница Куманиной выходная в среду. Он в среду и отпросился.
Траубенберг сидит перед Васильевым, маленький, худенький, с изящными движениями, продукт многих поколений, не знавших ни труда, ни нужды, и рассказывает обо всем так спокойно, как будто все происшедшее имеет к нему очень далекое отношение.
— А где ценности? — спрашивает Васильев.
— Ценности за границей,— говорит Траубенберг и смотрит на следователя виноватыми, извиняющимися глазами.— У Зибарта есть знакомый контрабандист, который взялся переправить их за границу, удержав себе всего только двадцать процентов. Зибарт его рекомендовал, и на него действительно можно было положиться. Я уже получил письмо от матушки, в котором была условленная фраза, что она себя плохо чувствует и просит меня приехать повидаться с ней. Это означает, что ценности доставлены и мы можем ехать. Вот мы и подали заявление.
Эглит ничего не говорит на допросе. Он только молча кивает головой в ответ на вопросы и так же молча, без возражений подписывает предъявленные ему протоколы. Васильеву отлично известны все подробности, потому что их рассказал Траубенберг, и от Эглита ему нужно только признание. Зибарт, человек темпераментный, то ругается и жалуется на несправедливость судьбы, на то, что все награбленное ими достанется этой паршивой старухе Траубенберг, страшной гадине и скупердяйке, то жалуется на судьбу, то проклинает Татиева и говорит, что это князь их соблазнил, что он, Зибарт, противник убийства и на этот раз вынужден был согласиться только потому, что сумма была уж очень большая.
И вот наконец перед Васильевым сидит князь Татиев. Он молчалив и мрачен. Спорить ему, собственно говоря, не о чем. Ему предъявлены протоколы допросов трех его сообщников. Он пытается, правда, сказать, что его отпускают по воскресеньям, а преступление совершено в среду, но Васильев молча кладет перед ним собственное его заявление с просьбой разрешить ему выходной в среду 2 ноября ввиду того, что прошлое воскресенье он оставался на дежурстве.
Князь только вздыхает. Спорить действительно нечего.
Да, соучастники стояли за дверью, когда он позвонил Куманиной. Куманина, увидев его сквозь щель в двери, очень обрадовалась и сняла цепочки. Тогда он сказал: «Разрешите представить моих друзей», и все четверо вошли в квартиру и заперли за собой дверь. Ну, потом было все просто. Куманина так испугалась, что почти не кричала. Фокстерьер бросался и лаял, но его быстро убили. Долго пришлось искать тайники. В таких делах Зибарт очень опытен и много помог. Инструменты были у Эглита, так что вскрыли они тайники без труда. Уже подписав протокол, Татиев вздыхает и говорит:
— Все это трагическая судьба российской аристократии!
— Ну почему же трагическая судьба? — удивляется Васильев.— Вы ведь служили комендантом аэродрома, получали неплохую зарплату.
— Видите ли,— объясняет Татиев,— конечно, мое со-
стояние до революции было не первой руки, не то что там шереметевское или юсуповское, но все-таки солидное. Мне необходимо было играть. Я привык к игре, и довольно крупной, с юности. Я довольно долго держался, отказывал себе во всем, но в день получки отправлялся в клуб и играл. А потом, знаете, самолюбие заело. Гляжу, кругом меня люди играют по крупной, а я все ставлю какую-то мелочь. Вот и пришлось пойти на растрату.
— Вы же знали, что это откроется? — спрашивает Васильев.
— Во-первых, бывают же выигрыши,— пожимает плечами Татиев.— И потом, всякие могли быть возможности. Можно было бежать на Кавказ. А потом, когда написали в газетах, что я растратчик, мне стало уже и на Кавказ неудобно ехать. Во-первых, потому, что я растратил. А во-вторых, потому, что я не сумел скрыть растрату. Я сразу понял, что трагическая судьба российской аристократии непременно доведет меня до преступления, и решил не сопротивляться. Куманина, между прочим, была жадина ужасная. Может быть, в том, что ее убили, была историческая справедливость.
Следствие было кончено, и дело Передано в суд. Васильев заново вспоминал все подробности и думал: почему опытному и добросовестному Свиридову не удалось распутать дело? Конечно же, потому, что и его загипнотизировало это казавшееся бесспорным алиби Татиева. Не может же человек в одно время сидеть за решеткой и совершать преступления. Если бы не случайная фраза Книго о князе, который безнаказанно берет сотни тысяч, то и Васильеву бы не пришло в голову поднимать это старое и уже забытое дело. И он подумал о том, как важно не упускать ни одного, даже случайно сказанного слова, даже случайно услышанного намека. Так когда-то его насторожила и направила на верный след услышанная в вагоне фраза о гире на ремешке, так и сейчас помогла ему распутать второе дело случайная фраза Кинго.
А что касается трагической судьбы российской аристократии, то о ней Васильев не думал. Аристократия его не интересовала.
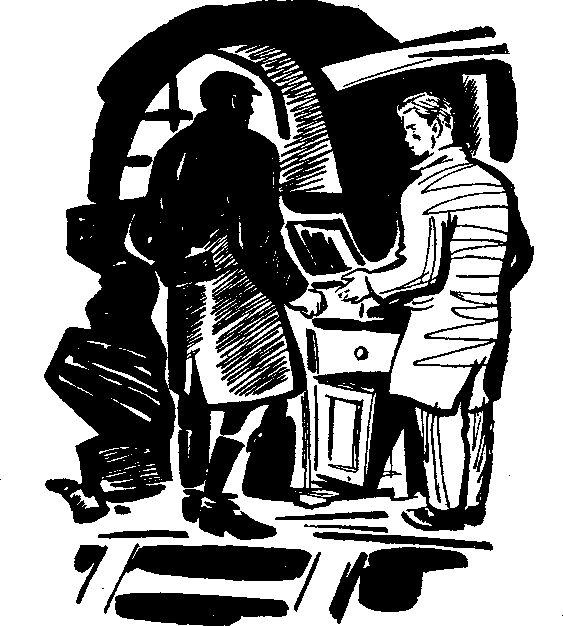
 ТЕЛЕГРАМ
ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник
Книжный Вестник Поиск книг
Поиск книг Любовные романы
Любовные романы Саморазвитие
Саморазвитие Детективы
Детективы Фантастика
Фантастика Классика
Классика ВКОНТАКТЕ
ВКОНТАКТЕ