Ир Ши

Опять роман с осенним ветром

Я возродилась как птица феникс, как бабочка, сгоревшая в фонаре, как…
Вылив на голову стакан с ядом, я текла на пол рекой, рассыпалась на мелкие песчинки, а они, будто живые, расползались в разные стороны и прятались в щели. Разбитое окно, разбитое отражение в зеркале, осколки недомолвок и мелких тайн. Последняя капля яда упала на голову вчера и убила меня. Все, что накопилось за три месяца лета, убийственного и опасного, но полного приятностей, радостей и страстей, вылилось с водой. Впервые в жизни я вошла в офисный туалет, села на крышку унитаза и заплакала, обхватив голову руками. Плакать долго мне не пришлось, так как я понадобилась снаружи.
Бумаги на столе шевелил ветер, от волнений пошатывалась я, чувствуя его жаркое дыхание на щеках.
Сегодня я стала жить заново, сегодня вновь моя любимая осень — всегда радость и удивление. С теплыми листьями придет радость, потому что теперь живу. Не буду носить в кармане обиду, не буду лелеять чувство затаенной злости. Капюшон подарит негу и нежность прогулок по парку. Шуршащие листики будут умирать под ступнями ног, обещая уйти и родиться вновь весной, когда место страстям и отнюдь не романтике.
С осенью придет ветер. А значит, вернусь прежняя я, прежняя Ир Ши, немного безумная, смешливая и рассеянная. Я выйду из образа итальянки Милены, сниму сабо куклы Барби, и стану японской девушкой. В полосатых брюках, платье и бусах на талии — конничива, аригато и сайонара.
Сегодня я проснулась в шесть, завязала плотно волосы в узел и выбежала на улицу. Было прохладно, и в лицо дышал ветер. Я бежала вперед, а тонкие лучи солнца освещали мне лоб и глаза. Так же и вчера тонкая иголочка луча освещала руки, бессильно лежащие на клавиатуре — но это было вчера, вчера была не осень. Я бежала и думала: «Да, рассвет определенно хорош, рассвет роскошен и приятен, и прекрасен. И дарит живительную силу». А ведь всегда удивлялась безумию тех, кто пробуждается рано и бегает ради здоровья. «Определенно признак старости, ведь пожилые люди обожают утреннее пение птиц и рассветы», — усмехнулась я позже.
Никогда я не бегала так раньше. Но главное даже не это. Главное то, что я сделала после такой несвойственной для меня пробежки. Я поехала, поехала, скорее, по инерции и, что самое удивительное, на такси. Я приехала на вокзал, место романтики и трейнспоттинга. Там дурно пахло грязными телами, но из кармана я достала охапку листьев и пару желудей. Я купила на них билет на первый же поезд — чтобы забыть обиды и обиженных, чтобы забыть себя и воспоминания.
Воспоминания — это когда утром, проснувшись, по стеночке идешь в мечтах, что не было ничего или было что-то. Ах, опять одни рассуждения. Но совсем недавно, еще летом, опасным летом, ранним утром, а именно в час дня, было все не так. И меня разбудил кто-то по телефону и заставил идти в другую комнату смотреть. Удивительно, но я послушалась, как стойкий оловянный с одной ногой. В ванной обнаружилась книга, я стала ее читать и поняла, что, возможно, еще люблю кого-то, и что зря он меня послушал, и что зря он не пошел на поле боя. Я была бы победой, слово даю.
Зарывшись лицом в полотенце, я увидела вереницу лиц неудачников. Я была на пьедестале среди них. Мы ведь столько раз делили время пополам — я ничуть не лучше. Мне стало так противно, что я решила отныне и до конца сидеть дома. Моя фобия пусть живет в кулачке, пусть никто не знает. И я тоже. Моя интимофобия, мой страх открыть дверь. Ой!
Я прокрутила мысли через мясорубку, а потом, улыбаясь, съела все обиды. Счастье кроется в мелком — так всегда.
Вы знаете, я признаюсь в одном обиженном: из-за меня умер муж героини моей компьютерной игры The Sims. Я была счастлива, потому что он был не просто так — он воплощал персонаж из моей настоящей жизни. Я устроила пожар, и он героически погиб, а героиня в это время усиленно флиртовала со своим новым любовником, спокойно созданным моей рукой и воспаленным мозгом. И все равно, мне было как-то больно, чувства ведь не умирают, даже если похоронный марш и реквием по любви.
Но все это в прошлом, и даже кажется, что даже сегодня было давно. Я в движении, и ветер мне навстречу, из своего укрытия, в котором мгновенно забываются обиды и обиженные, забываю саму себя и воспоминания.
Билеты куплены, и я — пассажир. Всего лишь пассажир или: «Вы представляете: осень, а я — пассажир!» Пока я просто пассажир и смотрю в окно. Там листья кружатся бабочками, по несколько одновременно. Там капельки дождя летят в лицо. Я искренне верю, что это не вода из пластикового стакана, выплеснутая из окна впереди, и уж тем более не слюна, сплюнутая из соседнего купе. Пока я просто сижу и гляжу в окно; там картинки мира, лица, козы, маки, козинаки…
Там мелькают столбы, и деревья, и фонари. И если будет остановка, то обязательно под самым ярким фонарем. Тогда я выйду и стану уже пешеходом. Я могу войти и поехать дальше, купив абрикосов или петушка на палочке. А могу не входить обратно — пойти путешествовать по неведомому городу, оставив багаж и бумажки. Я пойду с пустыми руками, так легко, как в фильме. Будут мокрые мостовые, будет моросить дождь, будут мокрыми кирпичные стены, листья будут осыпаться шелестящим потоком. Я буду идти в сером плаще из советских времен — так бы мне хотелось. Будет петь японка Мэйко Каи — я так хочу тоже. Будут ездить трамваи и старые волги-такси.
Там, возле стенки из рыжего кирпича, я увижу мальчика в джинсах и черной футболке. У него большие синие глаза и каштановые волосы, и такой невинный взгляд. Тогда я остановлюсь у дерева с шершавой корой, прикоснусь к ней рукою, как я люблю это делать, и закрою глаза. Там под веками светит солнце, висят зрелые плоды на деревьях, шумит морская волна. И там безжалостно жарко. Потом я открою глаза и увижу дождь и глаза цвета неба. И я скажу: «Здравствуй, ветреный». (А потом я состарюсь и умру. Так всегда заканчивается жизнь. В городе Н, в городе без имени).
Когда приезжаешь в новый город, то ровно три дня душа парит отдельно от тела, и ты смотришь на мир с высоты птичьего полета. Все чудесно и волшебно, но вот проходят дни, и ты привыкаешь. Безумно, пронизывает насквозь, как невесомость полета, когда ты вместе и ты отдельно. Но вот проходят дни, и ты привыкаешь. Остается гербарий из чувств с разноцветными крылышками.
У тебя тоже так, скажи?
Другой город, осень. Осень — мечта желтого цвета, праздник тлеющей страсти и танцующей любви, что кружит-кружит, как волчок, как безумная кошка по лужам, по сухому асфальту в мокрых цветных аппликациях несказанных слов.
Все в другом городе не так: не так летит ветер, не так светит солнце, не так я говорю слова.
Я гуляла, мне было радостно, тревожно и немного страшно. Мне мешали посторонние звуки, мне мешало отсутствие музыки в ушах. Мне не хватало неслышной компании мальчика с глазами цвета неба. Мне не хватало того, чтобы меня кто-то ждал и вожделел. Возможно, где-то там, за семью домами, так и было, но я этого не знала. А если не знаешь, то значит, ничего и нет. Если нет признания в любви, то можно считать, что тебя никто в этом чужом мире не любит. Тогда надо обратно, в свой глубинный мир, на дно или в небо.
Перед глазами картинки: мы вместе, но грустно, что мы вместе. Мы идем по парку, и я улыбаюсь, но улыбаюсь по инерции. Потому что он есть, и мне не по кому грустить, и нет смысла ждать прекрасного принца. Постоянно чего-то не хватало, а теперь я одна, и мне слишком хватает надежды, веры и поводов погрустить. Я наслаждаюсь внезапными движениями природы, стуком своих туфель по чужому асфальту и глазами мальчика, что прекрасны, как цвет…
Ах! Посмотрел бы ты только, как ветер разрывает объятия неба и кружит осколки людей в осеннем урагане, в почти зимнем урагане! Он заполняет тела, пробираясь сквозь ноздри и уши, он нежными пальцами, желтыми от табака, приподнимает любимым девушкам волосы и заглядывает им в глаза холодом. Он звонит в колокола.
Одна из его самых любимых ступает мягкими движениями по влажной земле, она бежит ради бега. Вот она услышала звон, замерла, тревожно огляделась. Нервная улыбка на лице как знак ожидания. Она смотрит в небо и — сквозь него — на звонаря, что с трепетом отыгрывает свою вечернюю субботнюю музыкальную партию. Колокольчики — все разные — узнают в нем своего хозяина и подчиняются, поддаются, как ждущая жена. Звенят.
И последний удар самый сильный. Тело звонаря даже подалось вперед, покачнулось. Самый пронзительный звон получился — что-то среднее между мистикой церковных таинств и женским стоном. И потом протяжный звук, длинный, пронзительный и благополучный, дрожащий, как струна… Этот звук застыл на миг в воздухе, завыл, и в протяжной, утихающей агонии — умер, медленно-медленно умер этот звон.
Она (или я) пошла дальше, ветер тоже продолжил свой путь, лаская ее своими пальцами. Тонкие узловатые пальцы, настоящие натруженные пальцы, чистые и аккуратные, протертые бинтами в лавандовой воде. Сексуальные пальцы без капли лака, без лишнего белого конца ногтей. Они пляшут, поправляя волосы, извиваются золотой змейкой. Какой может быть экстаз с другими, покрытыми сотнями средств, скучными? Разве что расцарапать спину, разве что растерзать, поиграть в хищника… но ветру ведь это не нужно. Он сам хищник, белозубый зверь.
Какие же мысли терзают ее в этих одиноких играх? Кто видит этот внутренний экстаз? Почему праздник крадется тихо в ее сознание каждый вечер, шепча о своем визите стандартным фейерверком?
Важно отдать свое тело ветру, облизать с жадностью его белоснежные зубы, важно разглядывать свои ладони и пальцы, важно сегодня говорить только с ним как с посланником сладких снов, как с частью стихии, как с вечным спутником по дороге домой.
— Я тебя люблю, мой ветреный. Я счастлива благодаря тебе и себе. Встретимся сегодня в центре города. Я буду играть со стихией, я буду кричать, что мне больше не нужно ничего — я ведь гордая, хоть и слабая. Я одна, я приехала, я счастлива в осени!
Знаешь что: я сниму клип. Оду отношениям. Не тем, что у меня сегодня с ветром или с тем, кто притворился ветром.
Обязательно будет название «Романтика осени».
Сначала я появляюсь на экране. Крупный план. Я говорю: «Я придумала такую картинку, тебе должно понравиться».
Все в коричнево-оранжевых тонах, осенних тонах. Все так намешано, что не поймешь, где листочек, где лицо, а где тело. Ты берешь ложку и водишь по кругу, и мешаешь ею в стороны — рисуется сюжет, как в happy story, где все прекрасно. И из картинки выходит такой клип: главные герои в нем принц и принцесса, ничего оригинального, принц на белом коне, конечно же, а принцесса романтична до одури.
Я в роли принцессы, потому что всегда хотела сыграть такую роль. В роли принца кто угодно, по желанию, он не главный.
Итак, листья дождем осыпаются на дорожки парка, скамейки залиты светом фонарей, на небе звезды. Все как из пластилина, сверкающее и мягкое на ощупь. Принц и принцесса стоят (в роли принцессы я, не забывай) Они стоят, фонарь навязчиво освещает лицо принца, а принцесса стыдливо прячет глаза, лишь иногда сверкая взглядом исподлобья. После какой-то внутренней борьбы (она отражается на лице и отпечатывается в глазах) принц говорит: «Дорогая и милая принцесса, я, похоже, влюблен в тебя безумно, так сильно влюблен, что готов подарить мир, что лежит у меня на ладони». Принцесса смотрит ему на руки и видит, что на ладони у него и вправду сверкает мир, сверкает фиолетовой, малиновой и розовой красками, и во все стороны желтые лучи, горячие-горячие, солнышком расходятся в разные стороны.
Конечно, сразу же тепло льется по ее душе, как потоки коньяка, вниз, к пяткам, и вверх, до кончиков ушей. Она улыбается по всем правилам романтических клипов, улыбается, дышит тяжело, чуть ли не плачет и бежит к месту, где много коричнево-оранжевых листьев. У нее в этот день волнистые волосы, как на этой картинке (камера на меня, серого автора: я показываю картинку), и волосы развевает ветер. А она, принцесса (то бишь я), счастливая и дико радостная, раскинув руки в сторону, падает в кучу листьев. И листья разлетаются в стороны… как пушинки с одуванчика или конфетти (я решу позже, как именно).
Принц склоняется над ней, она все еще улыбается. Потом улыбку сменяет гримаса — принцесса упала неудачно, не в мягкую перину листьев, а на что-то твердое. Романтике пришел конец, клип испорчен, у принцессы проблемы с челюстью, и принц не будет ее больше любить. Да? Как думаешь?
Съемочная группа говорит хором: «Ну, кто взял эту нелепую девушку на роль принцессы?»
Я это к чему? А к тому, что идеала не бывает; всегда получается не так, как мы себе рисуем. А вообще, лучше бы, когда падаешь в листья, ни обо что не ударяться. Но я вскоре тоже стану репетировать падение, а то мало ли — вдруг завтра клип случится.
Я нашла там место переночевать, в этом городе. Я переспала с ночью, мне приснились сны без сюжета. Совсем не такие, как в моем вымышленном клипе. Я надела вчерашние вещи и поблагодарила тетю Машу, у которой нашла ночлег, за стакан молока, который я оставила нетронутым.
Я вернулась в обыденную жизнь очень быстро и незаметно для себя. Я читала свои буквы, я даже слышала их в ушах. Я приехала. Никто и не заметил, как я уезжала. Будто я просто вернулась с внезапной пробежки, хотя одета была совсем не для бега.
Я выпила любимый утренний кофе и поспешила в контору к себе. Сидела там, маялась, думала, где я была целый день и была ли вообще. Снилось мне или все же была?
Но то, что я нелепа, ты уже знаешь, хотя бы по клипу, никогда не снятому. Потерялась в кудрях мыслей, даже в ноздрях вьются эти мысли. Сидела и сидела, и говорила по телефону, даже с мамой, по-моему, говорила. Но было так сложно. Совсем невозможно. Пришлось выпить яд.
Вылив на голову стакан с ядом, я текла на пол рекой, рассыпалась на мелкие песчинки, а они, будто живые, расползались в разные стороны и прятались в щели. Разбитое окно, разбитое отражение в зеркале, осколки недомолвок и мелких тайн. Последняя капля яда упала на голову вчера и убила меня. Все, что накопилось за три месяца лета, убийственного, но полного приятностей, радостей и страстей, вылилось с водой. Впервые в жизни я вошла в офисный туалет, села на крышку унитаза и, обхватив голову руками, рассеянно улыбнулась. Долго мне так сидеть не пришлось, так как я понадобилась снаружи.
И в окно стучал ветер.
Я вышла к 11 утра на улицу по делу, но делу я сказала: «Подожди, тебя я поимею позже». Я перешла по подземному переходу и купила одну сигарету (ох, уж это «не курю»). Потом я прошла дальше, на улицу Хрещатик, и направилась к скамейке, чтобы покурить.
Первые две лавочки были заняты, потому я села на третью. Там уже сидел восточный юноша и смотрел в сторону. Я закурила, и увиделся мне этот миг, как в книге Мураками. Конечно, юноша был намного краше самого Мураками, но увидался он мне таким.
Он примерно бы думал следующее: «Я сижу на лавочке и убиваю время. Осталось пару часов до моей встречи с Наоми, я перекусил в закусочной. Там съел кусок пирога со шпинатом и выпил чашку эспрессо. Эспрессо был хорош. Я сидел за столом и рассматривал фотографии Наоми, ее смеющиеся глаза. А потом я пересел на скамейку на улице Крещатик.
Вот девушка, садится рядом. Она не смотрит на меня и о чем-то рассеянно думает. Достает из сумочки сигарету, зажигалку оранжевого цвета «Віс» и, пару раз щелкнув, закуривает. Волосы ее растрепал ветер. А губы у нее припухшие, как после поцелуев, на них нет помады. Но она не целовалась, просто так они припухшие, мило так. Кажется, она вообще очень давно не целовалась — читается в глазах. И кажется, что она боится и избегает думать об этом. Она провожает пешеходов взглядом, стараясь не задеть меня. Иногда поднимает голову вверх и смотрит, как сплетаются у самых крыш домов верхушки каштанов. Выкурив сигарету до половины, выбрасывает ее в урну, нажимая на педаль, идет в ту сторону, откуда пришла. Смотрит по сторонам и на свое отражение в витрине лавки «Пресса». Я иду за ней. Она покупает поллитровый стакан малины у старушки, что стоит у Бессарабского рынка, торгуется немного, а та ей говорит, что если бы они были в деревне, она бы пригласила ее на рюмку водки. Девушка смеется глазами. Мы равняемся; она ест малину из стакана, я просто стою — нам перегораживает дорогу «Лада». Потом она переходит дорогу, а я остаюсь стоять у бровки.
Со спины она очень похожа на Наоми, которой уж год как нет в живых, а я хочу привыкнуть, что она есть и что я увижу ее через пару часов. Жаль, мне не удалось разглядеть ее уши».
Так началась моя осень. Сегодня началась.
Прогулка в чужих ботинках
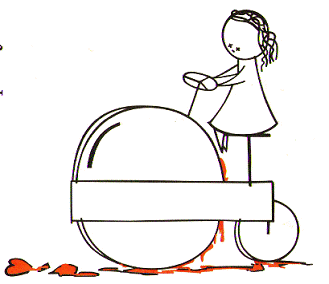
Шла вдоль длинной асфальтированной дороги, по краям которой росли тополя и кусты шелковицы. Эти кусты, когда они окроплены красочным зеленым цветом, держат на себе много ягод, но об этом мало кто знает. Если протянуть руку и слегка коснуться веточки, пошевелить пальцами в зелени, то обязательно наткнешься на сочный плод. Так было в детстве, так редко бывает сейчас. Только когда мечтаешь, когда весна, когда ягоды шелковицы еще не созрели, когда тополя срубили, а посадили совсем новые и чужие, и когда ждешь. Ждешь и вспоминаешь…
Вспоминаешь, как ноги пришли домой, несмело и неуверенно. Я пришла, помялась в коридоре, сняла шляпу, виновато прижала к животу. Тяжело вздохнула. Еще раз тяжело вздохнула. Не глядя, все сложила на тумбочке. Тихо-тихо зазвенела молния на сапогах, и мягкая кожа упала, как театральный занавес.
Пытаясь не дышать, робко, как котенок, я вошла в комнату. Он сидел на полу, скрестив ноги. Тарелка с миллионом спичек и окурков. А час назад мои коленки дрожали в невероятной истоме воспоминаний. Я смотрела на лица людей в метро, и мне казалось, что знают, знают они о том, что было совсем-совсем недавно. Мне казалось, что и пахну я по-особенному, и что глупая улыбка на лице, и что такой счастливой быть нельзя, просто невозможно!
Я, конечно, смеялась, сначала робко, потом, с каждым вздохом, все смелее и смелее. Он радовался, как ребенок, он недоумевал, почему я так счастлива, почему говорю загадками, почему задумчиво и глупо перебираю пальцами его волосы. И никакой совести. Если совесть — это душа, то на тот момент душа моя спала, как спал спокойно он, разбросав руки по простыне.
Адюльтер. И ничто не важно в такие минуты. В такие минуты с радостью ждешь телефонных звонков, чтобы утопить воспоминания о страстях в горячительном, пьянящем напитке. Мечтаешь оказаться там, где прекрасно и где много людей.
Дождавшись сигнала, бежишь, потом теряешься в лицах, в мыслях и музыке… когда все одеты как инопланетные создания и в невероятно яркие цвета, когда тебе якобы что-то шепчут на ухо, но потом пытаются его съесть… И тогда понимаешь, что было бы хорошо оказаться где-то, где танцевали бы танец… вальс, скажем. А тот парень, что блондин и еще не определился, сказал: «Послушай, ты бы прогулялась как-то в моих ботинках!»
— Ах, ой, ну, если ты настаиваешь, то да, обязательно.
На самом деле это было какое-то дикое предложение, не правда ли?
Но я надела его ботинки.
Мои черные ботинки блестели бесконечно. Я достал их из пыльной коробки, тщательно протер, завязал шнурки. Я шел вдоль домов из рыжего кирпича, по шершавому асфальту, и я видел, как в ботинках отражаются облака.
Посмотрел на часы. Было половина седьмого — время поужинать. Я вошел в ближайшую закусочную, но там было только выпить и пирожок. Взял большой стакан, какие обычно были в детстве на тумбочке, и гранатовый сок, и водку.
Потом я смотрел в окно. В закусочной было удивительно пусто, только дама с пышными бедрами, в халате какого-то кукольного розового цвета, с разными по величине пуговицами, терла шваброй пол. Я смотрел в окно. Накрапывал дождь, грозящий блеску моих ботинок. Было пусто не только в закусочной — было пусто и за окном. То ли из-за дождя, то ли из-за времени — было семь, уже столько натикали часы — людей вообще не было. Я вспоминал чужие руки в каплях воска, похожих на ранки. Я вспоминал родные руки в каплях воска, как в росе.
Может, район такой пустынный. Я нисколечки не знал, что мне делать. Времени было предостаточно, мне казалось, что все остановилось, и лишь стрелки часов выводили меня из оцепенения.
Гранатовый сок был горьковат и с непонятной мякотью на дне. Женщина в розовом халате перестала протирать пол и запела древнюю песню из своего прошлого: «Лай-ла, ла-ла-ла… Лай-ла, лалала». Это не мешало мне вспоминать, только я себя чувствовал как в кино: вот-вот начнется увлекательная история. Мне не было грустно, мне не было одиноко, у меня не было желаний никаких. Я даже не хотел в туалет. Я не думал. Я наблюдал за тем, что вокруг. Но вокруг было мало предметов, основным и самым заметным украшением были трещины на дешевом больничном белом кафеле.
Я стал пьян. Я взял еще и еще сока, еще и еще водки. Это никого не смущало, в том числе и меня.
Пошатываясь, я вышел в дождь. Зонта у меня не было. Я нашел в кармане смятую пачку сигарет. Достал ее и закурил, пачку скомкал и выбросил себе под ноги. Ветер подхватил ее и понес вперед. Я догнал ее и поддел носком уже не блестящего ботинка. Она зашелестела, как осенний лист, и укатилась куда-то туда, совсем с моих глаз. Я шел, я был пьян, я проходил одну улицу за другой. Уже включили фонари.
В тот вечер шел снег, настоящим снегопадом из «Метели» Пушкина. И я ушла с вечеринки с тем, что не определился, потому что выпила вина сухого «Каберне» и под суши: так пошло.
Я подумала, рассматривая носки своей обуви: «Раз так пошло все началось, то можно уже как бы и не притворяться приличной женщиной. Нет, вообще я очень прилична, даже чересчур. Я так вежлива, что сказать «нет» для меня дико неудобно, но я просто вынуждена».
— А теперь ты послушай, ты не болен? Что-то вид чахлый. И молчишь, — говорила я.
Мы шли-шли — я где-то там уже давно в его ботинках — прошли тысячи секунд с тех пор, как он предложил. И он сказал вдруг: «Саша, Вова, Алеша, Алеша, Сережа, Женя, Илья, Кирилл, Юра, Сережа, Гена, Саша, Андрей, Гена-Гена, Игорь, Саша, Саша, Саша». И еще несколько имен.
А ведь эти имена — сетка метаний на верхней линии моей ладони. Столько невероятных историй любви. И теперь я вспомнила, и посмотрела на руки, даже остановилась. Я люблю разглядывать свои ладони, люблю быть одна, люблю иногда заплакать. Тогда кажется, что все обиды и болезненные инъекции разочарований — в сердце, прямо в сердце — это ничто.
Я хочу порой безумно рыдать, но не могу. Все равно, как убегать от черной машины во сне. Все равно, как бояться грома и молнии в пустынном доме на краю леса. Как будто хочется закричать, и кричишь, а звука нет. Кто-то прикрутил ручку громкости, и тебя не слышат, и не идут на помощь.
А пришли бы, если бы услышали? Вот подумалось, что когда-нибудь тебя услышат во сне, но никто не придет! Ведь это ужаснее, чем когда просто не слышат. Это страшнее, это равнодушие. Я иду, и хочу заплакать от досады, досады такой, что я жду чего-то, а оно не случается. Я иду, и хочу заплакать просто для выброса лишнего, что скопилось на полке сознания. Когда от досады — то хорошо в одиночестве. Тогда можно и предметами покидаться, и подушками, и разломать что-то со зла. А потом спустя какое-то время успокоиться, тихо всхлипывая, отвлечься на музыку, случайно выбранную компьютерным музыкальным проигрывателем, и, истерично захохотав, пуститься в пляс; потом, размазывая тушь по лицу, убрать бардак, сотворенный минуту назад, и съесть что-то вкусное, выпить, а может, даже закурить, драматично хлопая влажными ресницами и бездушно дымя на окружающие предметы.
Город был чужим. На скамейках лежали стопки рекламных газет. Я вдруг понял, что уже давно не вечер. Я посмотрел на часы: было четыре. Было утро, и пели птицы, я не понимал, где я. Я сел, сел на одну из стопок. Мне не было грустно и одиноко, мне не было грустно и одиноко, мне не было… Мне было все равно.
Мне было все равно, что ботинки уже не блестят. Мне было все равно, что дождь, что кусочки влажной газеты прилипли к брюкам, к моим пижонским брюкам в полоску. Мне было все равно, что внезапно появился туман. Я думал, я смотрел на фонари, они еще горели, капли дождя сверкали в их свете как вечерняя мошкара. Пели птицы. Во влаге пахло дождевыми червями и дикими фиалками — пьянящий запах гадкого и прекрасного. Я отошел к ближайшему кусту, я присел, потом вспомнил, вспомнил что-то и сразу забыл, я встал и подошел к дереву. Расстегнул, достал, помочился. Засмеялся. У меня были деньги с собой. Толстые пачки, перетянутые резинкой, как бутоны тюльпанов по весне.
По парку шла девочка. С очень длинными гладкими волосами. Когда она была совсем близко, я увидел, что она не идет, а едет. Она ехала на роликовых коньках. В узких и коротких шортиках. На голове какая-то странная панама, явно от дождя. И тонкая маечка, маечка не только тонкая, но и мокрая. Очень соблазнительная девочка среди раннего, теплого, влажного утра.
Она подъехала ко мне, по смуглым щекам тонкими струйками стекала вода, похоже, ей это было приятно. Она видела, как я уставился на ее грудь, что явно проглядывалась под тонкой влажной материей майки, она улыбалась глазами, посмеивалась надо мной. Я смутился, так странно, но я забыл и смутился. Я снял шляпу и слил воду с полей, одел обратно, она звонко рассмеялась и сказала:
— Будет ли у тебя сигарета? Доброе утро.
— Доброе утро, — сказал я. Достал из кармана купюру, протянул ей. — Съезди-ка за сигаретами, милая, и мне привези.
Она улыбнулась, быстро взяла деньги и укатила, и вдруг — так необычно… — вдруг дождь закончился, и даже солнце намекало на свое появление. И я увидел, что сижу под деревом грабом и что уже совсем светло, но мне стало непонятно все вокруг и одиноко.
Она быстро вернулась, на ней были очки с темными стеклами. Она купила сигареты со сладким ароматом и вкусом. Я такие не любил.
— Спасибо, — прошептал.
Она стояла напротив, заслоняла собою солнце, покачивалась на роликах и улыбалась. Я не видел ее глаз под стеклами. Я закурил, она зажала сигарету губами и ждала. Я поднес ей зажигалку.
— О чем ты думаешь? — вдруг спросила она.
— Как тебя зовут? — ответил я.
— Меня зовут Саша.
— Значит, тезки.
Она опять рассмеялась, так задорно, что мой смех вдруг сам, совершенно сам ответил ей эхом. Солнце успело полностью осветить дома справа. Она смотрела на меня, я смотрел в сторону. Я курил, она облизывала сигареты, как леденец. Мне было неловко, я не видел ее глаз, но я не хотел, чтобы она уходила.
— Пойдем, — услышал я свой голос, я сильно ухватил ее за руку. Она опять засмеялась, но поехала за мной. Я пытался остановить автомобиль, я еще раз спросил, как ее зовут. Она пристально посмотрела, сняла очки и надела на меня. Потом аккуратно наклонилась и поцеловала мне ладонь. Я посмотрел на руку, как будто там был должен остаться след. И вдруг вспомнил вкус гранатового сока, вспомнил, какой горькой была водка, какой мелодичный голос у женщины в розовом халате. Вспомнил, что меня мучила жажда, что мне было холодно, что на заднице у меня висели куски газет, что мешал шум телевизора из чьего-то окна. Я вспомнил, что мы были в центре города, что я вышел вчера из дому и чувствовал себя одиноким. Я начистил ботинки, потому что думал покинуть или город, или все. Я вспомнил, что сто лет не звонил отцу, что мой пес уже две недели как у подруги. Что мне надо купить зонт и дорожные чеки. Во мне проснулись чувства, что спали вчера. Вчера я был роботом, роботом, которого запрограммировали на череду бессмысленных действий. Остановился белый автомобиль.
— Куда тебе? — спросил я.
— А может, просто покатаемся?
— Я голоден.
— Я тоже ничего не ела с утра, кроме твоих сигарет.
Глухим, но восторженным голосом я назвал адрес водителю. Играла музыка, Луи Армстронг. Напряженно вслушиваясь, я все произносил себе, что это забавно!
Когда крохотная птичка,
Которая никогда не поет,
Вдруг начинает петь: «Весна! Весна!»
И когда голубой колокольчик
Даже в глубине ущелья
Начинает звенеть: «Динь! Динь!»,
Это значит: природа
Просто приказывает нам
Влюбиться, о да, влюбиться!
И тогда птицы делают это!
И пчелы делают это!
И даже необразованные мошки делают это!
Так давай же займемся этим!
Давай полюбимся, детка!
А потом перечислялись все возможные живые существа. Задорный хриплый голос Луи.
Я попросил притормозить водителя, я достал какие-то деньги и отдал Саше. Вышел. Ярко светило солнце, я попросил отвезти ее, я написал ее губным карандашом на обрывке бумаги свой номер Я шел по тротуару, редкие прохожие спешили на рабочие смены по конторам. Звенели троллейбусы или какой там у нас транспорт, редко-редко проезжая мимо. Мне казалось, у меня был некий план.
Вдруг начался дождь, настоящая весенняя гроза. Или «куриный» дождь, или «слепой», как его называют. И мне вдруг стало тесно в ботинках… в чужих ботинках.
Наклонился и расшнуровал, снял. От асфальта шел мнимый пар. Я аккуратно поставил ботинки у бордюра, где фонтан поливал клумбы. Шел босиком, был счастлива, светило солнце, у меня не было дел, у меня была жизнь и босые ноги, ступающие по проспекту. За вершинами домов со мной в прятки играл маленький солнечный луч. Ботинки мокрые и гордые, и одинокие остались позади, странно теплая вода протекала сквозь мои пальцы. Я сказала не свое имя — свое я забыла. На мне были летнее белое сатиновое платье и мокрая от дождя шляпа. Я спешила на встречу к кому-то, я повторяла вслух:
Let's do it!
Let's fall in love!
Я миную стены домов, шумных людей, я чувствую капельки на щеках, но не слез, а дождя. Плакать хорошо под дождем и в снег: тогда никто не догадается. Еще можно без смущения лить слезы в ветер, но опять же, в одиночестве приятнее.
Хотя, когда я избавляюсь от чувств, окружающие люди меня совсем не беспокоят. Совсем не беспокоят и любопытные взгляды скучающих обывателей. Когда чувство расстройства душевного, то можно и руки заламывать, и пощечину кое-кому залепить, и безумно смеяться, крутя головою из стороны в сторону, и бегать по песку, и опираться на стены зданий. Поплакать — святое дело, очень нужное и требующее особого настроения, вдохновения и мастерства. Все прекрасно, все прекрасно. Но я хочу поистерить, поистерить с всхлипами и слезами, с размазыванием черных разводов по лицу. Так, чтобы навзрыд. Так, чтобы чувства на волю.
Чтобы потом закурить, и чтобы так легко-легко, как будто летаешь на воздушном шаре, так нежно, так хорошо, так свободно, так невесомо. Я их даже пачками стала приобретать, эти сигареты, но вот желание пропало. Так идут одна за другой, бесследно, как дым без огня. И не от радости или отвращения. И не для маскировки неудавшегося разговора. И не прячась за углом, украдкой. И не с наслаждением в постели смаковать каждый вдох дыма. А так, чтобы дрожащими пальцами ухватить крепко и так быстро-быстро судорожно касаться губ, как будто целуя на прощанье, порывисто и в последний раз.
Но нет причины плакать, все так, как началось. Я иду, оставляя звонкое эхо на асфальте своим легким шарканьем. Мои шаги легкие, робкие, а время как будто остановилось. И все молчит, а я рассеянна и забываю, забываю, оступаюсь и падаю, путаясь в одежде. И нет даже всхлипа — лишь беспричинное спокойствие и улыбка, достойная кроткой Урсулы где-то на Севере Германии. Ля-ля-ля, вальс и десять стариков на скамейке, и главный персонаж Жан-Клод с винным пятном на лбу. Я читала в детстве этот роман в ванной, название смутно помню: что-то про цветы.
Не удается сегодня мне покурить всласть, ни даже заплакать, ничего… даже хлеб сейчас ем как-то бездарно, изрядно измазавшись икоркой. Иду, вглядываясь с легкими чувством стыда в глаза прохожим.
И даже погода протестует против таких настроений. Я намотала на голову платок, на манер барышни из кабриолета: шел дождь, а я без зонта.
В кармане телефон, на нем сохранилось пару сообщений. Те, что не отправлены. Я читаю их. Одно просто ничего не значит, а второе… второе — это способ немножко ближе сказать какие-то слова. Там какая-то чушь, полушутка, полувопрос, ничего не значащая фраза, но как важна она — как невидимая, неосязаемая цепочка. Я хочу быть рядом, смотреть, говорить. А это сообщение, полуприятельская фраза — один шаг к нему навстречу. Я его не отправлю в этот раз, потому что страшно, потому что я бы хотела сказать: «Мне кажется, я влюблена в тебя, и делай с этим, что хочешь!» Эти неотправленные слова — как огненный шарик между двумя людьми, как сгусток энергии, который может перевернуть мир. Посредине этот шарик, и две линии пунктира идут от него к разным полюсам. Стоит нажать кнопочку, и он полетит к адресату, так скоро, виляя сверкающим хвостиком, что я, опомнившись, буду протягивать ладони, чтобы поймать, но не смогу, потому что его уже закружило по линиям электронных эмоций.
Я продолжала прогуливаться, ну и пусть, что одна. Я так много уже передумала, так много вспоминала, но меня это радует. Я жду, я ищу, я думаю. Я улыбнусь этому дождю, этой кутающейся в холодные перья весне, потому что где-то там совершенно точно в меня влюблен лучший мальчик в мире. Я пишу на бумаге письмо и, привязав к воздушному шару, пускаю по ветру.
Я смотрю в окна, мне кажется, что в темной комнате сидишь ты. Ты пахнешь пылью, запыленный. С непослушными волосами, в мятой рубахе. На окнах тяжесть ткани, в комнате тяжесть мебели, от чего ужасная теснота. Недоеденные лимоны на столе, исписанные листы бумаг ворохом, веером спят на полу. Пресс-папье с очаровывающим снегом кружит и поет о Париже. Это безумие акварели в рисунках, что забросаны карандашами, это гуашь иероглифов, это бесконечные разговоры по телефону. Я так обожаю, когда ты просто есть, хотя бы на пять минут, хотя бы когда играет песня «Be my angel».
Шептал бы ты мне. Я так люблю твой такой влажный, липкий шепот на ухо, сводящий с ума, укутывающий пледом промозглые колени, замирающие в ожидании.
Звон монет, перечниц с перцем, солонок с солью, моих не сказанных слов и фантазий, что оживают только лишь в присутствии тебя. Мое чиханье от этой пыли и от этих осязаемых солнечных лучей. Эти кружения под медленную музыку, эти приятные мучения. Как хорошо, что живешь ты.
Я вошла. Посмотрела в глаза.
Мне осталось пару часов на твою любовь, которой нет. Я могу пару часов смотреть в твои глаза, я могу минуты наблюдать, когда они закрыты. Я могу дышать нашими общими ароматами, я могу поглядывать в окно. Открой тайну: что нужно делать? Нужно идти вверх или вниз?
Я чувствую — мягко. Пальцами так далеко. Нелепость. Ложная откровенность.
Мне осталось пару часов, чтобы сказать тебе. Я молчу. Я смотрю в сторону, кусаю пальцы. Потом опять на тебя. Ты на меня. Как будто пытаешься услышать, что я говорю. Но разве я говорила? Я не помню, я ничего не помню с тобой. Любое движение — ошибка. Я не могу не шевелиться, как и ты. Любое движение сокращает эти пару часов, что даны нам. Легкий ветерок делает нас краше. Я рассматриваю свои пальцы, потом ладонь, теперь другую руку. Ты как будто что-то говоришь, я слышу через слово. Или я опять ошибаюсь? Эти тонкости не для меня, нам не интересны слова друг друга, нам не интересны жизни друг друга: моя со мной, а твоя где-то там, где меня нет. Но ведь эти пару часов даны не случайно. Что-то должно произойти. Что-то уже произошло. Кто-то должен сказать. И мы говорим, но все не то.
Уж лучше уйти.
Напоследок я взгляну в твои глаза, улыбнусь.
И ты тоже.
Ведь ты всего лишь мое отражение. И чего я хотела?
Я потушила свет и зажгла свечи. В углу стояли чужие черные ботинки.
Она, по обыкновению, выдохнула и потрогала ладонью воск, ладонь прилипла на секунду к столу и тут же оторвалась, потянув за собой немного клейких нитей.
— Знаешь, прихожу домой, зажигаю свечу, такую красивую, в абажуре. Свет везде тушу. И музыку… музыку включаю и танцую. У меня столько эмоций плохих, и я танцую и воображаю, что я не у себя в комнате, а где-то там. В общем, мне кажется, что за мною кто-то наблюдает. И я себя красивой такой чувствую в это время. Хоть и одна. Ты знаешь, ведь всегда буду одна, и у меня не будет детей, и мужа хорошего тоже не будет. А потом я свечу задуваю, и вечеринка закончена.
Закрыла глаза.
Задула свечу. Сидела молча.
Я сказал:
— А хочешь, я подую тебе на веки легким ветерком, и все будет по-другому?
Она молча поднялась, заколола волосы и вышла, прикрыв за собою дверь.
А мне показалось, что меня совсем нет.
 ТЕЛЕГРАМ
ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник
Книжный Вестник Поиск книг
Поиск книг Любовные романы
Любовные романы Саморазвитие
Саморазвитие Детективы
Детективы Фантастика
Фантастика Классика
Классика ВКОНТАКТЕ
ВКОНТАКТЕ