ГЛАВА IX
ХАЙДАРАБАД — ВАЛТАИР
Весь день 23 января мы в пути. В 12 часов вылетели из Кочина, через два часа обедали в знакомом нам аэропорту Коимбатура, долго ждали самолета в Бангалуре, где была пересадка, и в полной темноте прилетели в «Сердце Индостана» — Хайдарабад. По пути еще раз, как на большой географической карте, под нами промелькнули пальмовые рощи и лагуны побережья Аравийского моря, полоса рисовых полей в предгорьях, холмы с каучуковыми плантациями, лесистые горы. Горы плавно поднимаются от моря и огромным уступом обрываются в долину Поннани. Через Палгхатский проход мы попадаем на Деканское плато. Поля, редкие группы пальм, посадки казуарин, колодцы. Вспоминаем экскурсии в окрестностях Коимбатура и Бангалура. Кажется, что с тех пор прошло много-много времени.
Итак, началось наше путешествие с юга Индии на север. Хайдарабад — столица штата Андхра Прадеш — по индийским масштабам совсем «молодой» город. Он был заложен в 1589 году правителем Голконды Мохаммедом Кули Кутб Шахом. Сейчас в городе около 1300 тысяч жителей, он стал выдающимся культурным центром Индии. Такое положение Хайдарабада в Индии определяется тем обстоятельством, что эта территория была единственным крупным государственным образованием из наследства Великих Моголов, центром мусульманской (исламской) культуры в Индии.
Хайдарабадские правители — низам-уль-мульк («устроитель дел государства»), или просто низамы, — в бурной истории средневековой Индии не раз предавали национальные интересы страны, выступая в союзе с англичанами и французами, против национально-освободительного движения. Англичане оценили преданность низама, не тронув формально его княжества Хайдарабад. Впрочем, для обеспечения верности «нашего верного союзника низама» в 10 километрах от города был создан огромный военный город Сикандарабад с английским гарнизоном, едва ли не самым большим в Индии. Сейчас последнему низаму, как говорят, самому богатому человеку в мире, за девяносто лет. Правительство Республики Индии лишило его всех политических прав, оставив ему награбленные у народа богатства и установив солидную ежегодную пенсию в несколько миллионов рупий[32].
Профессор Сингх появился у нас рано утром, и сразу после завтрака мы посетили его кафедру в Османском университете. Эта кафедра зоологии — одна из крупнейших в Индии. Здесь осуществляются разнообразные исследования по анатомии и развитию рыб, земноводных, пресмыкающихся и млекопитающих, по применению биологических методов борьбы с вредителями сельского хозяйства, но основное направление работ — паразитология. Сам профессор Сингх — крупнейший паразитолог, хорошо известный во всем мире как специалист по болезням, вызываемым круглыми червями — нематодами. Среди последних работ кафедры — большое исследование по нитчатке Банкрофта — паразиту, вызывающему у людей слоновую болезнь.
Жизненный цикл паразита довольно сложен. Взрослые черви, живущие в лимфатических сосудах человека, рождают живых личинок, которые проникают в кровяное русло. Днем они держатся в сосудах легких, в сердце и в аорте, а к ночи сосредоточиваются в капиллярах кожи. Благодаря своим ничтожным размерам (0,2–0,3 мм длиной при толщине не более 10 микрон) личинки вместе с кровью попадают в желудок комаров, нападающих на людей обычно в ночное время. Когда комар сосет кровь здорового человека, то личинки активно пробираются через его хоботок в кожу и далее в лимфатические сосуды. Здесь из маленькой личинки вырастают тонкие (всего 0,1–0,3 мм в диаметре), но довольно длинные черви. Самки достигают длины до 9 см. Взрослые паразиты скапливаются в большом количестве в лимфатических узлах и сосудах, закупоривают проходы и способствуют, таким образом, застою лимфы. К застою лимфы присоединяется болезненное разрастание и отвердение подкожной клетчатки. Конечности сильно увеличиваются в размере, как бы опухают, становясь похожими на толстые ноги слона. Впервые мы увидели больного слоновостью в Тривандруме. В разгаре наблюдений за летучими лисицами на улице показался такой больной. Это был пожилой мужчина, который медленно ковылял в нашу сторону, волоча толстую, как бревно, ногу, изрезанную глубокими складками в местах сочленений. Другая нога, хотя и не была так страшно раздута, тоже была поражена.
Слоновая болезнь, как это ни удивительно, не вызывает болезненных ощущений, кроме неудобств, связанных с массивностью и ненормальной тяжестью измененного органа. Человек шел медленно, но при этом весело нам улыбался, по-видимому, он уже привык к своему несчастью и смирился с ним. Известно, что слоновая болезнь поддается терапевтическому лечению лишь в начальный период, запущенные формы можно лечить только хирургическим путем, но практически они уже неизлечимы.
К счастью, далеко не у всех людей, в теле которых паразитирует нитчатка Банкрофта, она вызывает слоновость. Часто люди внешне выглядят совершенно здоровыми. Так, обследование показало, что на Коморских островах от 80 до 90 процентов населения имеет в крови личинок нитчатки, однако слоновость выражена у очень небольшого числа людей.
Кафедра зоологии ведет большую работу по разъяснению населению необходимости применения профилактических мер, которые в общем довольно легко выполнимы. Необходимо, оберегаясь от комаров, спать под марлевым пологом. Живя на юге Индии и в Хайдарабаде, мы, несмотря на жару, старались спать под пологом, чтобы уберечься от комаров.
В Османском университете наука о паразитических червях — гельминтология достигла очень высокого уровня. Здесь хорошо знают и высоко ценят труды наших крупнейших паразитологов академика К. И. Скрябина и В. А. Догеля.
В один из дней после обеда отправляемся в Голконду. Этот «пастуший холм» (голла-конда), превращенный в XVI веке правителями из династии Кутб Шахов в первоклассную по тем временам крепость, привлекал толпы придворных поэтов, торговцев, ремесленников, искавших защиты у сильной власти. Конец существованию Голконды положил Аурангзеб, осадивший город и разграбивший его в 1687 году так, что он больше не возродился.
Сейчас здесь можно видеть хорошо сохранившиеся пояса стен Верхнего и Нижнего форта, развалины дворца и служебных помещений внутри. Камни, серая безжизненная земля, редкие деревья. Может быть, поэтому мы отправились в небольшой парк, расположенный к северо-западу от крепости, с издалека видными куполами огромных мавзолеев.
Здесь похоронены все правители Голконды. Время пощадило их гробницы. Они сейчас стоят, наверное, такие же торжественные и напыщенные, как и 300 лет назад: широкая массивная платформа, как бы приподнимающая все сооружение, арки, галереи, карнизы, а надо всем — огромный купол в венце из стилизованных лепестков, завершающийся острым точеным шпилем. У нас хватило терпения осмотреть только одну, самую большую гробницу, где похоронен Абдула Кутб-Шах. Внутри пусто, ничего нет, кроме мраморных надгробий. Если поверхность надгробия гладкая — лежит женщина, если с клином наверху — похоронен мужчина. Мы думали на этом и кончить знакомство с Голкондой, но вышло иначе.
Доктор Дж. Салем, специалист по паразитам млекопитающих, узнав, что мы давно мечтаем получить в коллекции летучих лисиц, предложил нам принять участие в ловле этих животных. Как — это он обещал показать непосредственно на месте, а пока мы договорились встретиться на следующий же день, с утра. И вот доктор Салем с лаборантом — веселым, уже пожилым, но быстрым в движениях мужчиной — и мы вдвоем забираемся в старенькую машину и катим по уже знакомой дороге в Голконду.
Сразу же идем к высоким Фатех-дарваза — Триумфальным воротам Нижнего форта. За раскрытыми створками трехэтажных ворот, усаженных огромными коваными шипами, прошлый раз мы не заметили совсем маленьких ниш, ведущих в привратные помещения. Сумрачные комнаты с еле пробивающимся откуда-то сверху через узкую бойницу лучиком света дохнули на нас сыростью и прохладой. Под арками сводов на высоте 6–7 метров видим несколько висящих летучих мышей.
— Это не для нас, — замечает доктор Салем. — Посмотрим, что делается в другой башне.
Вылезаем к воротам и едем к другой башне Нижнего форта. С трудом открыв небольшую деревянную дверь за воротами, проникаем в такое же башенное помещение. Здесь, пожалуй, запущенней, на полу горы невесть откуда взявшейся земли, пониже своды. Но зато здесь и больше летучих мышей. С громким писком начинают они носиться над нами, чуть не задевая нас. Не теряя времени, начинаем размахивать сачками, но результаты ничтожны — всего две мыши. И тут вступает в действие метод доктора Салема. Его помощник ловко соединяет несколько бамбуковых колен, и в руках у него оказывается длинный шест с гибким и тонким концом. Этот тонкий конец он тщательно обмазывает густой и липкой массой. Несколько секунд — и к протянутому во мрак шесту приклеились две летучие мыши. Скорее, скорее снимать их и в клетку, предусмотрительно захваченную нашим провожатым. Тут-то дело пошло веселее: не прошло и 15 минут, а в клетке уже сидело по крайней мере полтора десятка небольших летучих собак — розитт (Rousettus leschenolti) — единственных из фруктоядных летучих собак, селящихся в пещерах и заброшенных зданиях. Тут уж мы отложили в сторону наши бесполезные сачки и Только помогали снимать прилипших зверьков и сажать их в металлическую сетку. Потом оказалось, что наловили мы в башне Голконды не один, а два разных вида. В обществе летучих собак жили самые настоящие летучие мыши, но более крупные, чем наши.
В конце концов мы разогнали колонию. Встревоженные животные поднялись в верхние, более светлые помещения башни, иные, пользуясь одним им известными ходами, перелетели в соседние полуподвальные помещения, попасть куда мы смогли бы только после основательных раскопок. Но ловля, оказывается, только начиналась, и главная охота была впереди. Наша машина двинулась в Хайдарабад.
Хайдарабад стоит на реке Муси, которая в январе кажется ручейком. С большого Ная пул («Нового моста») видны два самых красивых здания города, выдержанных в так называемом индо-сарацинском стиле: Османия-госпиталь и здание Верховного суда штата. Недалеко от здания суда стоит четырехэтажный городской колледж. Между ними — тенистый сад с фикусами и акациями. И на этих деревьях висят гроздьями все те же крыланы, птеропусы, или просто летучие лисицы. Висят в густой листве деревьев и, пожалуй, выше, чем в Тривандруме.
Снова из нескольких колен составляется длинная палка. Теперь она по крайней мере 7–8 метров длиной. Ее осторожно поднимают и просовывают между ветвей. До ближайшего крылана остается не меньше метра. С мастерством жонглера наш помощник надставляет еще одно колено. Тихонько сбоку подводит он тонкий верхний конец к шевелящемуся крылану. Легкое, почти невидимое снизу прикосновение — и крылан срывается с ветки и раскрывает свои могучие крылья. Ушел! Нет, одно из крыльев плотно приклеилось к липкому шесту. Скорее вниз! Молниеносно разбираются колена, и вот шипящий, бьющий свободным крылом и угрожающе щелкающий зубами крылан у нас в руках. Для тебя, дружок, есть еще одна клетка, побольше! Вот так, поштучно, нам удалось добыть 11 крыланов, заполнить все наши клетки.
Уже в лаборатории университета, разбирая нашу добычу, мы принялись выяснять у Салема, что это за чудодейственный клей, так здорово «улавливающий» летучих мышей. Оказалось, что в состав этого клея входит смола розового дерева и что таким способом испокон веков ловили птиц в деревнях Телинганы. Большего нам узнать не удалось.
Именно во время нашего пребывания здесь случилось несчастье: околели оба веселых лори, которых мы купили на базаре в Мадрасе. Они безропотно переносили все тяготы путешествия на самолетах, на поездах, на автомобилях, но чего-то им не хватало. Накануне они покусали нас обоих. Это-то и встревожило: не взбесились ли они? Бешенство среди диких животных широко распространено в Индии, особенно в больших городах. Заразиться этой страшной болезнью лори могли на Мур-маркете, где животных содержат в большой тесноте. Но если так, то нам надо немедленно делать прививки против бешенства, здесь каждый час промедления может оказаться роковым. И началось наше непредвиденное программой знакомство с лечебными учреждениями нескольких индийских штатов — ведь прививки надо делать в течение двух недель подряд.
Больница в Хайдарабаде, куда нас привезли для прививок против бешенства, помещалась в нескольких корпусах разной величины. После короткого визита к начальству нас ведут в процедурную. У дверей большая очередь: пожилые скромно одетые мужчины, женщины, дети. Всех их покусали бешеные животные. Люди молча посторонились, повинуясь жесту ведущего нас врача. Чувствуем себя несколько неловко, но отступать уже поздно. Вакцинация производится в небольшой полутемной комнате (полутемной сравнительно с уже ставшим привычным ослепительным наружным освещением). Бесплатная медицинская помощь, кстати была законом у древних индийцев. Первые свидетельства об общественных бесплатных больницах и аптеках относятся к периоду до нашей эры (тогда даже существовали специальные больницы для животных!), а в эпоху династии Гуптов (IV–VII века) такие больницы функционировали уже в каждом городе. Вообще говоря, индийские медики древности могли бы многому научить нас. Вот что по этому поводу пишет Ф. И. Щербатской: «Мы с гордостью, как о большом достижении современной медицины говорим о пластических операциях на лице. Образованные индусы должны встречать такие утверждения с усмешкой. 1,5–2 тысячи лет назад в индийской хирургии были обычными такие операции, как ринопластика (создание искусственного носа), операции по формированию новых ушей и губ, Общее количество применявшихся при операциях хирургических инструментов превышало 200!».
26 января Индия праздновала День Республики. Учреждения не работали, и для нас наступило время полевой экскурсии. Профессор Сингх предложил нам отправиться в лесной массив Нарасапур. Как мы пожалели, что плохо знаем флору! Здесь растут самые разнообразные лиственные деревья. Кое-где на сучках еще есть листья. Но что это за листья! Огромные, сантиметров в 30–40 длиной, сухие, желтые. Ворохами листья лежат на земле. На них наступаешь, и они трещат как сухой хворост. Повсюду на дороге — грозные надписи, предупреждающие, что курить и вообще зажигать огонь в лесу категорически воспрещается. Если бы не эта сухость и жара, лес был бы очень похож на наш осенний.
В лесу разделяемся на группы. Константин Александрович завел с профессором Сингхом бесконечный разговор на паразитологические темы. Е. В. Жуков принялся помогать Николаю Сергеевичу в сборе кокцид, а мы вдвоем по какой-то тропинке направились к вершине поросшего лесом холма. Вскоре, однако, мы поняли, что треск листьев под нашими ногами должен распугать все живое на километр вокруг. Обычно в листовой подстилке леса прячется много разнообразных животных — пауков, насекомых, пресмыкающихся, грызунов. Но сколько мы ни ворошили листву, ничего найти не могли. Лишь многочисленные норы и норки говорили о том, что в этот период все живое укрылось от жары глубоко в землю.
По лесу разносится все время какой-то шум и шорох. Это ветер шуршит огромными сухими листьями, временами поднимая их выше верхушек деревьев. И среди такого шуршащего мертвого леса неожиданно встречаем деревья карникакра, сплошь усеянные крупными ярко-желтыми цветами. В индийских легендах появление этих крупных цветов на темно-серых голых сучках связывается с весенним приходом бога любви Камы. Отломив одну из веток такого дерева, мы с удивлением обнаружили, что вся она пропитана влагой, сок каплями падал с излома. Значит, где-то в глубине корни достают воду. Около цветов карникакра и рядом с крупными красными кистями цветов тилака — дерева, растущего в низинке поодаль, вьются миниатюрные птахи, столь маленькие, что сначала мы приняли их за бабочек. Ну конечно же, это нектарницы, порхающие у сочных цветов и с помощью длиннющего клюва высасывающие нектар.
Проходя мимо одной из каменных гряд, мы обратили внимание на какие-то вертикальные белые полосы, аккуратно нарисованные на камнях. По тропинке, которая еще заметна, поднимаемся между валунами. Они выше человеческого роста. На самой вершине гряды среди огромных валунов сооружен небольшой храм: вырубленная в плоском камне дверь ведет в тесное продолговатое помещение. У дальней стены вертикально стоит каменная плита с изображениями одной большой фигуры и двух поменьше, на чисто выметенном каменном полу в углу стоит свежий веник, а у каменной плиты с барельефами фигур — остатки курительных палочек (агрбатти), подношения богам — яркие тряпочки, узелки с какой-то засохшей снедью. Сквозь многочисленные щели в камнях приятно тянет сквознячок, из каменного проема двери открывается великолепный вид на всхолмленную даль, покрытую невысоким кустарником и блестящими озерами. Ни деревень, ни полей, ни людей кругом не видно. И тем не менее храм не выглядит заброшенным. Кто-то регулярно ходит сюда, подправляет белые полосы на камнях, окружающих святилище, подмазывает красной краской лица высеченных в плите фигур и мажет той же краской голову и хобот сидящего на барельефе у основания холма Ганеши.
Подъехав ближе к Хайдарабаду, останавливаемся у каменистой гряды с живописно громоздящимися каменными глыбами. Кажется, эти гигантские камни положены друг на друга нарочно. Некоторые из них нагромождены в три-четыре этажа. Многие имеют округлую форму, и их даже можно покачать. Но, подойдя поближе, видишь, что такие огромные каменные глыбы сложить одну на другую не сможет и современный человек с его техникой. Кажется, малейшего движения достаточно, чтобы вот такой огромный камень весом тонн 30–40 покатился вниз, но он лежит неподвижно здесь сотни лет и, наверное, пролежит еще не меньше, если расторопные каменщики, следы работы которых видны у подножия гряды, не сделают из него отличные каменные блоки.
Эти гранитные глыбы неправильной формы производят неизгладимое впечатление. Говорят, когда Брахма — бог-созидатель окончил сотворение мира, то у него осталось много лишнего материала. Он, не зная, куда бы его пристроить, решил все собрать в одно место и сбросить эти глыбы сюда, в окрестности Хайдарабада. Это предание слышала княгиня О. А. Щербатова, побывавшая в окрестностях Хайдарабада в 1891 г. Впрочем, если принять эту гипотезу, остается непонятным, как удалось Брахме, используя только граниты и гнейсы, из которых сложены эти валуны, соорудить такой великолепный мир.
Возвращаемся в город. Сегодня большой национальный праздник Индии — День Республики. На зданиях правительственных учреждений развеваются оранжево-бело-зеленые полотнища флагов, полицейские в наутюженных белых кителях и ярко-синих брюках, всюду в поселках процессии школьников с флажками и небольшие митинги.
На следующий день с центрального вокзала Хайдарабада экспрессом отправляемся в Валтаир, университетский городок на побережье Бенгальского залива. Тепло прощаемся с профессором Сингхом, сопровождавшим нас во всех поездках в Хайдарабаде. Через полчаса прибываем в Сикандарабад. На вокзале в маленьком книжном киоске можно купить книги Золя, Горького, Шекспира. Здесь меньше мусульманских фесок и ширвани. Как символ Хайдарабада вспоминается Чар-Минар с индуистским храмом и мечетью на крыше.
Почти сутки мы провели в поезде, шедшем на восток от Хайдарабада, и прибыли в Валтаир в самую жаркую пору дня. Нас встречал профессор П. Н. Ганапати — известный гидробиолог, заведующий кафедрой зоологии университета штата Андхра Прадеш в Валтаире. Мы разместились в маленьком гест-хаузе университета, где к услугам гостей имеется десяток комнат на двух этажах. В микроавтобусе отправляемся за город осматривать старинный индуистский храм. Он стоит недалеко от города на высокой горе, похожей по форме на сахарную голову. К нему ведет широкая каменная лестница, насчитывающая тысячу ступеней. Николай Сергеевич уже с утра жаловался на сердце и потому, услыхав о числе ступеней, решил остаться внизу. К нему присоединился и Евгений Витальевич, остальные начали медленно подниматься по крутой лестнице.
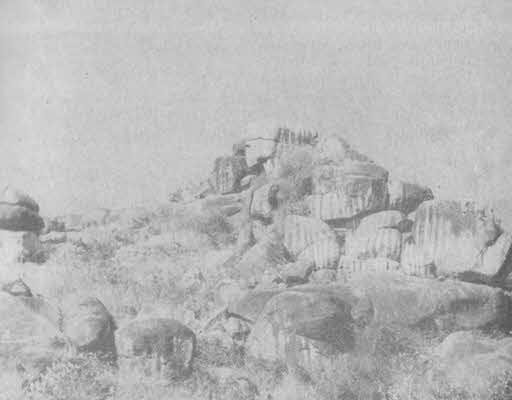
Среди камней — небольшой храм Шивы.
Окрестности Хайдарабада
Обычно рядом с храмами можно встретить лишь паломников и туристов. Но у этого храма несомненно были и местные жители. Оказалось, что на вершине горы, у самого храма — маленький поселок, жители которого то и дело должны преодолевать эту тысячу ступеней. Внизу у лестницы сидели группы нищих. Нас, уже как будто привыкших к таким зрелищам и как-то притерпевшихся к ним, поразил калека-мальчик с изуродованными, высохшими, скрюченными ногами. Получив от нас монетку, он неотступно следовал за нами по лестнице в надежде получить еще что-то.
На другой день проснулись мы очень рано и, не дожидаясь завтрака, отправились вдвоем к морю. Идти надо было около километра, вначале по асфальтированной улице, потом по пыльной грунтовой дороге. У самого моря пересекли небольшую пальмовую рощу и вышли на широкий песчаный пляж. Сперва мы взобрались на гряду больших камней и стали собирать там моллюсков и крабов, а затем решили пренебречь акулами и искупаться. Поплыли в сторону небольшой скалы, выступающей из моря метрах в 200 от берега. Вода приятно освежила. На обратном пути к берегу увидели в море еще двух пловцов. Это оказались К. А. Бреев и Е. В. Жуков, которые тоже решили искупаться до завтрака. Утро действительно было чудесное, и вода очень теплая. Но пришлось торопиться с возвращением, так как предстоял визит на кафедру зоологии университета Андхра Прадеш.
Тематика работ кафедры зоологии университета Андхра Прадеш, как и во многих других университетах, довольно разнообразна. Здесь ведутся исследования и по цитогенетике и по паразитологии, но главное направление работ — морская гидробиология, — вероятно, продиктовано близостью моря. Наиболее интересные работы связаны с особенностями гидрологического режима Бенгальского залива. В сухие месяцы, с января по июль, когда речной сток значительно уменьшается, соленость воды в заливе достигает нормальной океанической, то есть равна 3,5 процента. Но с наступлением дождливого периода реки выносят в море огромное количество пресной воды и опресняют воду вблизи берегов до 1,9 процента. Усиление речного стока и связанное с этим увеличение в море биогенных веществ, приносимых реками, вызывает бурное развитие мельчайших одноклеточных водорослей — фитопланктона, а затем и зоопланктона, главным образом мельчайших рачков. В это время у берегов появляются большие скопления планктоноядных рыб, за которыми следуют хищные рыбы. Недалеко от Валтаира впадает в Бенгальский залив крупнейшая река Южной Индии — Годавари. Кафедра изучает также фауну эстуариев (солоноватоводных участков дельты) Годавари.
Нельзя не упомянуть о цитогенетических исследованиях, проводящихся под руководством доктора М. В. Рао. Он изучает особенности наследственности у простейших организмов. Эта работа требует очень сложной методики, поскольку для получения сравнимых результатов необходимо постоянно иметь совершенно одинаковый (в генетическом смысле) подопытный материал. Для этой цели на кафедре уже более 8 лет содержатся культуры различных видов инфузорий и жгутиконосцев. Не много найдется в мире лабораторий, где эта работа проводится на столь высоком методическом уровне.
Расписание нашей поездки по Индии неумолимо подгоняет нас. И вот мы опять в поезде, идущем теперь на север вдоль побережья Бенгальского залива. Из окон видны лишь прибрежные равнины с полями риса и арахиса. Пейзаж не меняется и после пересечения границы штата Орисса. Справа виднеется большое солоноватое озеро Чилка — точнее, это морская бухта, отделенная от Бенгальского залива очень длинной узкой косой. Далее дорога пересекает реки Брахмани и Байтарани, образующие единую очень широкую дельту. Где-то слева от нас остался Пури со знаменитым храмом Солнца.
Наступила душная ночь, и мы долго ворочались на жестких полках вагона. Утром поезд шел уже по Западной Бенгалии, приближаясь к Калькутте. Заметно изменился ландшафт. Хотя кругом равнины и повсюду заливные рисовые поля, но уже не видно деревень. Мелькают усадьбы, хутора. Каждая усадьба состоит из нескольких домиков под высокой двускатной крышей из листьев пальмиры. Задолго до того как показалась сама Калькутта, начались ее пригороды: масса лачуг, стоящих на кривых узких улочках. В воздухе висел сизый дым от тысяч очагов, в которых беднота готовит себе еду.

Здесь потрудились циклопы

Резная колонна храма.
Андхра Прадеш
 ТЕЛЕГРАМ
ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник
Книжный Вестник Поиск книг
Поиск книг Любовные романы
Любовные романы Саморазвитие
Саморазвитие Детективы
Детективы Фантастика
Фантастика Классика
Классика ВКОНТАКТЕ
ВКОНТАКТЕ