Глава 6 ВОЗВРАЩЕНИЕ В КИЕВ-1
Одним из первых на совершенно новый уровень тренерской работы Лобановского в «Днепре» обратил внимание известный киевский журналист Михаил Михайлов. «Стояло лето 1970 года, — писал он в статье «Молодо — не зелено» в начале 1972 года. — Мы сидели на стадионе киевских армейцев. Игра была скучной — одна из тех, когда зрители судачат о чём угодно, только не о том, что происходит на поле. Вдруг меня спросили:
— Как вы думаете, кто бы мог заменить Маслова, если он уйдёт?
Позиции Маслова были ещё достаточно сильны, динамовцы ещё, казалось, вполне могут поправить свои дела, и потому вопрос показался мне странным.
— А вы разве собираетесь освобождать Маслова?
— Нет, что вы! — ответил мне человек, имеющий прямое отношение к судьбе команды. — Но просто любопытно: кто бы мог справиться с такой серьёзной командой, кроме Маслова?
Я подумал и ответил:
— Пожалуй, Лобановский.
И стал перечислять достоинства этого тренера. Меня внимательно выслушали и покачали головой.
— Наверное, вы всё же ошибаетесь. Слишком молод».
Хорошо знавшие Михайлова коллеги говорят, что историю эту он не сочинил. Уже тогда, в 70-м, в Киеве время от времени заводили разговоры о возвращении 31-летнего Лобановского в «Динамо» в новом качестве. Дело оставалось за «малым»: Лобановский должен был убедить всех (или хотя бы тех, кто был вправе принимать решение) в своей состоятельности и пригодности для качественной работы в «Динамо». Работой в Днепропетровске Лобановский убедил всех.
Тому же Галинскому во всём виделись только интриги. Аркадий Романович всегда считал себя (во всяком случае, стремился к этому статусу) человеком, регулирующим многие процессы футбольной жизни из-за кулис, своего рода серым кардиналом. «В 1972 году в конце сезона, то есть ещё за год до приезда Лобановского в Киев, — писал Галинский, — он позвонил мне (из Днепропетровска в Москву) и сказал, что его вызывают в украинскую столицу и что там, как он понял, разговор пойдёт о его переходе на тренерскую работу в киевское “Динамо”. Предположив, что Севидов, возможно, вступил с местными властями в какой-то конфликт, я обеспокоился этим, позвонил в Киев и спросил у Севидова, что у него там происходит. Выяснилось, что “на Шипке всё спокойно”. На следующий день Лобановский звонит мне уже из Киева, обескураженный тем, что утром в ЦК Компартии Украины ему говорили о необходимости принять киевское “Динамо”, а несколькими часами спустя в городском и республиканском советах общества “Динамо”, а также в Спорткомитете УССР его встретили чуть ли не в штыки. Поняв, что за спинами обоих — Севидова и Лобановского — плетётся какая-то интрига, я посоветовал последнему возвратиться, не мешкая, в Днепропетровск, что он и сделал».
Скажу сразу, что и эта конструкция Галинского не выдерживает никакой критики. Не говоря уже о детальном разборе её основных связок.
В конце сезона 1972 года Лобановского действительно вызывали в Киев, но разговор о его возможном (подчёркиваю: возможном) переходе в «Динамо» шёл только в ЦК, причём на уровне не секретарском: он встречался с помощником Владимира Щербицкого Константином Проданом. Продан по просьбе, не исключено, Щербицкого знакомился с отлично зарекомендовавшим себя украинским тренером и интересовался его реакцией на возможное предложение: «А вот если бы мы...» То есть просто зондировал почву. Лобановский ответил дипломатично: «Я ещё не готов». Сам он тогда уходить из «Днепра» не хотел. В городской и республиканский советы общества «Динамо» Лобановский даже не заходил, а в Спорткомитете решал некоторые организационные вопросы, связанные только с «Днепром». Динамовские начальники и руководители Спорткомитета знали, конечно, о визите Лобановского в ЦК, но о содержании разговора с Проданом не ведали. На всякий случай из недр этих организаций по «устному телеграфу» понеслось: Севидова менять нет необходимости, надо дать ему время, Лобановскому ещё рано — слишком молод.
Тогда, в 72-м, после заключительного домашнего матча «Днепра» в чемпионате Лобановского возле стадиона ждала многотысячная толпа. Он вышел из подтрибунного помещения — высокий, стройный, в модном светлом плаще чуть ниже колен. В этом плаще он всегда сидел на скамейке запасных на осенних матчах. Плащ считался «фартовым». Оставшийся год спустя на хозяйстве в «Днепре» Виктор Каневский просил Лобановского не увозить этот плащ. У тренеров свои заморочки. Точно так же Юрий Андреевич Морозов просил у Лобановского «фартовую» шапку, когда тот менял головной убор. Считалось, что если что-то «помогает» Лобановскому, то это «что-то» должно помочь и другим.
Ада с хорошим их днепропетровским знакомым, председателем облсовпрофа Василием Прокофьевичем Пятаковым стояла в сторонке. Она наблюдала, как толпа двинулась по направлению к Лобановскому, потом остановилась, люди зааплодировали и принялись скандировать: «Васильич, оставайтесь! Дайте нам слово!» Лобановский остановился и громко произнёс: «Остаюсь!» Вздох облегчения, и толпа расступилась.
Судьба Севидова была решена не после злополучного кубкового финала с «Араратом» 1973 года — финал легко превратился в повод-аргумент, а после того, как «Динамо» проиграло чемпионат СССР 1972 года ворошиловградской «Заре». Это стало сигналом не только для партийно-спортивного руководства Украины: пора, мол, искать для «Динамо» нового тренера. Активно принялись работать в этом направлении городское и республиканское общества «Динамо», соответствующие отделы Спорткомитета.
Владимир Кулик, возглавлявший украинский Спорткомитет во второй половине 60-х — первой половине 70-х годов, в начале лета 1973 года добился приёма у Владимира Щербицкого и предложил назначить на пост главного тренера киевского клуба Лобановского. Щербицкий сомневался: стоит ли брать малоизвестного тренера, пусть даже своего, киевского, — не лучше ли пригласить титулованного специалиста из Москвы?
Сложно сказать, знал Щербицкий в момент встречи с Куликом, что один из руководителей республиканского «Динамо», Михаил Бака, уже вёл в Москве переговоры — как говорится, на всякий случай, ни к чему не обязывающие. Но известно, что знаменитый в прошлом динамовский футболист Михаил Семичастный, старший тренер отдела футбола и хоккея Центрального совета общества «Динамо», уже порекомендовал Баке кандидатуру Константина Ивановича Бескова. Бесков к тому времени вывел московское «Динамо» в финал европейского Кубка кубков (1972), был уволен и находился в состоянии простоя. Семичастный прежде поинтересовался у Бескова, с которым вместе играл в «Динамо», согласится ли тот, если последует приглашение из Киева, и, услышав «да», сообщил об этом Баке.
Между тем Михаил Макарович Бака, пришедший к руководству республиканским советом «Динамо» как раз из Днепропетровска, был очень хорошо осведомлён о том, как работали Лобановский и Базилевич. Сначала начальнику отдела футбола Спорткомитета Украины Николаю Фоминых об «удивительных достижениях в сфере функциональной подготовки профессиональных спортсменов» поведал — со слов Базилевича — Валерий Мирский, приступивший к работе в отделе по предложению Баки, а потом он же рассказал Баке о том, что два друга не только углубились в теорию новейших приёмов функциональной подготовки, но и применяют её в каждодневной работе — в «Шахтёре» и «Днепре» соответственно. Мирский вспоминает, что Бака посоветовал ему съездить и посмотреть, «с чем это едят». «Только не к Базилю поезжай, — сказал Бака, — а к Лобану. Тот поосновательней». И Мирский стал ездить в Днепропетровск, «как на работу».
По свидетельству Валерия Мирского, в середине лета 1973 года Бака сообщил ему и Николаю Фоминых, что начинается поиск нового главного тренера для «Динамо». «Дело, — сказал Михаил Макарович, — не столько в турнирных результатах, сколько в необходимости положить конец практике управления командой путём задабривания игроков всякого рода подачками». По словам Баки, первый заместитель председателя городского совета «Динамо» Сергей Сальников предупредил Севидова о возможном отстранении от работы с командой. Назвал Бака Мирскому и Фоминых имена двух кандидатов на замену Севидову — Бесков, диалог с которым он собирался вести сам, и Качалин, к которому для разговора должен поехать Фоминых. Качалин в то время работал с московским «Динамо».
Известно также, что в конце лета 1973 года Валерию Лобановскому позвонил первый помощник Щербицкого Константин Константинович Продан, справился о том, как идут дела, поздравил с турнирными достижениями и попросил, если последуют предложения, не переходить в другие команды, предупредив: «Не исключён вариант с киевским “Динамо”. Сейчас вопрос в стадии обсуждения». Именно тогда, летом 73-го, встретившись с Базилевичем в Сочи, Лобановский рассказал ему о состоявшемся звонке, и оба тренера впервые, пока без деталей, обсуждали возможность совместной работы. «Я до сих пор не понимаю, — говорит Базилевич, — как это Лобановский додумался до этой сумасшедшей идеи — работать вместе!..»
Ни один из динамовских футболистов не мог сказать ничего плохого о Севидове. И — не сказал. У тех, кто работал с Масловым и Севидовым, была возможность сравнивать: Севидов, в отличие от Виктора Александровича, — миротворец. Уравновешенный, спокойный, никогда не повышал голоса. «Александр Александрович, — делится наблюдениями Валерий Мирский, частенько игравший с Севидовым в шахматы, — со своим тихим голосом и обаятельной улыбкой напоминал скорее доктора Айболита, нежели тренера». Динамовских игроков полностью устраивало ещё одно присущее Севидову качество: он постоянно, из недели в неделю, заботился о повышении их материального состояния — доплаты, премии, новые звания, автомобили, замена квартир... Тренерский авторитет такая заботливость, несомненно, укрепляла. Но, позаботившись о регулярной выдаче пряников, Севидов даже не знал, где находится кнут. Он предполагал лишь, что кнут ему не понадобится. «Севидов, — считает Мирский, — оставался для футболистов старшим братом и повивальной бабкой их запросов даже тогда, когда его беспробудное добродушие начало откровенно мешать делу». После домашнего матча, например, он, вместо того чтобы объявить о немедленном отъезде на базу для проведения необходимых восстановительных мероприятий, мог поинтересоваться у футболистов, кто из них желает отправиться туда добровольно. Находились двое-трое из молодых. Буряк, Колотов, Блохин уже тогда понимали важность правильного времяпрепровождения после напряжённой игры. Стерильные условия: баня, массаж, витамины, продуманное докторами меню, хорошие продукты, сон на свежем воздухе в Конча-Заспе — рядом сосновый лес.
«Надо заметить, — писал всё тот же Галинский, — что команду отобрали у Севидова, когда ей осталось провести в первенстве страны всего три матча, причём против несильных команд, и если бы эти встречи киевляне выиграли, они, безусловно, стали бы чемпионами. После того как Севидов уехал из Конча-Заспы, на базу привезли нового тренера — Валерия Лобановского. Те, кто всю эту акцию задумал и осуществил, видимо, рассчитывали, что воленс-ноленс команда будет играть на победу в чемпионате и таким образом Лобановский сразу станет тренером, выигравшим золотые медали. Однако футболисты встретили его угрюмо, и Лобановский от управления командой в оставшихся матчах благоразумно отказался. Это поручили Михаилу Коману. Но поскольку настроение у футболистов не улучшилось, играли они безо всякого подъёма и вместо шести победных очков сумели взять только три. В результате — серебряные медали».
Запущенная версия легко подхватывается, становится для непосвящённых чуть ли не бесспорной истиной, и вот уже кандидат экономических наук Роберт Воскеричян заявляет ничтоже сумняшеся: «Интригу, благодаря которой Лобановский сменил Севидова, можно, конечно, назвать хитрой, я бы определил её как коварную, подлую и т. п., тем более что подобную попытку он делал ещё в 1972 году, но футболисты тогда воспротивились. Лобановский выпихнул Севидова за три тура до конца первенства. Это всем известно!..» «Подло выпихнул» — и точка! Всем же «известно»...
Что ж... Во-первых, Лобановского после отъезда Севидова на базу не привозили и футболисты никак не могли встретить его «угрюмо». Команде он был представлен — причём в качестве тренера, который начнёт работать с ней с 1 января, а пока будет только присматриваться и знакомиться с игроками, — уже после того, как динамовцы выиграли на своём поле первый после финала матч чемпионата — у «Зенита» (2:0), и не было заметно, чтобы они «играли безо всякого подъёма».
Первая встреча Лобановского с футболистами «Динамо» произошла во Львове, за сутки до встречи с «Карпатами». В номере люкс гостиницы «Львов» 19 октября 1973 года его представил игрокам тогдашний председатель Спорткомитета Украины Владимир Кулик. Он вспоминал, как в полной тишине Олег Блохин сказал: «До сих пор мы работали, теперь будем вкалывать». О том, как тренировался «Днепр», в футбольном мире знали все.
Во-вторых, играть «Динамо» в чемпионате оставалось не три матча, а четыре, причём только один из них — на своём поле, что в условиях исключительно напряжённого календаря внутреннего первенства, наслаивавшегося на участие киевского клуба в розыгрыше Кубка УЕФА, выглядело делом весьма сложным. И набрали киевляне, которыми руководили Коман и Терентьев, в этих оставшихся встречах не три очка, а пять: победы над «Зенитом» в Киеве и «Пахтакором» в Ташкенте, выигрыш по пенальти во Львове у «Карпат» (дававший одно очко) и поражение по пенальти в Алма-Ате от «Кайрата». Но и их не хватило для того, чтобы достать лидировавший «Арарат», который взял на этом же четырёхтуровом отрезке семь очков. Киевское «Динамо» здорово подкосило крупное поражение в Москве от ЦСКА 0:3 — ещё с Севидовым, за несколько дней до кубкового финала.
Севидова не могли спасти даже хорошие отношения, сложившиеся у него с футбольным куратором «номер два», секретарём ЦК КПУ Яковом Погребняком. Погребняк, самый молодой первый секретарь партийного обкома (ему в 1966 году, когда он возглавил Ивано-Франковскую область, не было и 38 лет), стал и самым молодым в СССР секретарём ЦК республиканской компартии (43 года в 1971-м). Спорт в ЦК КПУ по должности обязан был курировать секретарь по идеологии, но им тогда был Фёдор Данилович Овчаренко, крупный учёный-химик, академик, и спорт, как самому молодому, «отдали» Погребняку. Чемпионат СССР 1971 года киевское «Динамо» с тренером Севидовым и куратором от ЦК Погребняком выиграло. И когда Овчаренко заменили другим секретарём по идеологии, Валентином Ефимовичем Маланчуком, спорт новичку передали, но футбол оставили за Погребняком. Решение принял Владимир Васильевич Щербицкий, в мае 1972 года сменивший на посту первого секретаря Петра Шелеста.
Погребняк полагал, что это всего лишь рутинная зона ответственности, менее значимая, нежели торговля, которую он, в числе прочего, курировал. Но Щербицкий постоянно интересовался предматчевыми деталями («А по какой тактике будут играть?»; «А Мунтян выйдет?»; «А как себя чувствует Колотов?»), и Погребняку пришлось выработать свою схему подготовки к играм. После появления в «Динамо» Лобановского он взял за правило в день матча непременно говорить с тренером, узнавать все новости и во всеоружии представал перед Щербицким.
После поражения в финале Кубка СССР 1973 года Погребняк не спал всю ночь. На работу, по его словам, «шёл с ватными ногами, чувствовал, что достанется». За футбол Погребняку доставалось больше, чем за вместе взятые торговлю, машиностроение, лёгкую промышленность и транспорт, входившие в кураторский круг секретаря ЦК. В ЦК все собирались к девяти утра. Щербицкий обычно приезжал в десять. Погребняк утром после фиаско в финале ничем заниматься не мог — ждал звонка. Звонок раздался без четверти десять. Погребняк даже не помнил, поздоровался с ним тогда Щербицкий или нет, запомнил лишь слова футбольного куратора «номер один»: «Яков Петрович, чтобы я такого позора, как вчера, больше не видел. Делайте, что хотите. Подумайте, как укрепить тренерский состав “Динамо”».
Это был приказ. Погребняк собрал «консилиум»: он сам, заместитель председателя Совета министров Владимир Ефимович Семичастный, заместитель министра внутренних дел генерал-лейтенант Иван Никифорович Катаргин, председатель совета добровольного спортивного общества «Динамо» Михаил Макарович Бака, заместитель заведующего отделом агитации и пропаганды КПУ Леонид Макарович Кравчук (будущий первый президент Украины), заведующий сектором физкультуры и спорта того же отдела Иван Иванович Клопов. Прозвучала фамилия Лобановского (первым, возможно, произнёс её ещё перед «консилиумом» сам Щербицкий; в точности это неизвестно).
Во всех республиканских политбюро в те времена, по примеру Политбюро ЦК КПСС, обедали вместе. В украинском Политбюро обед накрывали на двенадцать персон: первый секретарь, пять обычных секретарей, председатель Совета министров, председатель Президиума Верховного совета, глава КГБ, командующий военным округом, руководители Киева и профсоюзов. Обедали обычно на скорую руку, полчаса, не больше. Затем обсуждали самые важные дела.
Погребняк, постоянный участник обедов, описывал их так:
«Секретарь ЦК, отвечавший за село, говорит, например: у нас не хватает крупного рогатого скота, который даёт высокие надои. Не можем мы вырастить! А потому желательно закупать, скажем, в Норвегии. Щербицкий интересуется, сколько это будет стоить. Секретарь сообщает сумму в валюте. Первый секретарь обращается к председателю Совета министров Ляшко: Александр Павлович, что вы на это скажете? Тот идею одобряет — дело, мол, нужное — и обещает выделить деньги из резерва...
Множество вопросов. То строителей надо было перебросить на строительство крупнейшего металлургического завода в Кривом Роге, то разобраться с поставками мяса в Москву — первый секретарь МГК Гришин, он же главный куратор и болельщик “Спартака”, всё время возмущался, что недодаём...
Спорить на обедах мы тогда, кстати, спорили и точку зрения свою отстаивали очень активно. Но когда решение принималось, действовали в соответствии с ним и на люди отдельного своего мнения не выносили. В интересах дела».
Во время обеда, проходившего после «консилиума», Щербицкий справился у Погребняка: кого будем брать на «Динамо»? Погребняк назвал Лобановского. Щербицкий согласился. На решение это, по словам Погребняка, повлияли объективные факторы: хорошо играл, хорошо работал в «Днепре», «да и своего, родного тренера хотелось...».
По поручению Политбюро (пускай и устному) Погребняк пригласил Лобановского для беседы. Беседа продолжалась около двух часов. До этой встречи Погребняк и Лобановский знакомы не были. Погребняк вспоминает, что перед ним предстал «высокий, худощавый молодой человек, державшийся настороженно». Выслушав предложение, соглашаться не спешил, сказав: «Одно дело заниматься “Днепром”, другое — “Динамо”. Ведь вы потребуете одних побед... Мне надо разобраться». Погребняк его успокоил: «Завтра же требовать не станем, хотя и неудачи долго терпеть не хочется».
На следующей встрече договорились о том, что Лобановский будет представлен команде, начнёт с ней знакомиться, а через месяц принесёт в ЦК предложения по развитию клуба. Предложения Лобановский разрабатывал вместе с Базилевичем, фамилию которого — как человека, с которым он намерен работать в тандеме, — назвал в кабинете Погребняка на следующей встрече. «В назначенный день, — вспоминал Яков Петрович, — фундаментальная программа Лобановского лежала передо мной: укрепление состава, оснащение спортивной базы, создание условий для подготовки молодых талантов, улучшение материальных условий футболистов и их семей...»
Погребняк курировал «Динамо» до 1987 года. У него была прямая телефонная связь с Лобановским. Перед особо ответственными матчами Валерий Васильевич звонил Погребняку, и они обговаривали сумму премиальных за победу. «В день игры, — рассказывал Погребняк, — во время обеда в зале для членов Политбюро Щербицкий интересовался, будут ли играть Блохин с Буряком, спрашивал, кто из игроков травмирован, всё ли нормально в команде. Я подробно отвечал, а потом говорил о премии. Владимир Васильевич оборачивался к председателю Совета министров Ляшко с вопросом: “Александр Павлович, найдём?” — “Если надо, найдём!” — кивал Ляшко. За международные матчи, выигрыши чемпионата или Кубка СССР каждый игрок мог получить дополнительную приличную премию».
Вряд ли в какой-либо другой советской республике местный ЦК компартии столь тщательно занимался делами футбольной команды, как в Киеве. И всё, разумеется, шло от «головы» — от Щербицкого, прекрасно осознававшего, какая важная роль отведена футболу в жизни общества, и за футбол всегда переживавшего по-болельщицки. Но только Лобановский, по словам Погребняка, решал, кому и какую дать квартиру, машину. Если в ЦК пытались подсказать ему, назвать какие-то фамилии, Лобановский отвечал: «Нет, это — команда. Подошла очередь следующих игроков. Пусть они не ведущие, но тяготы тренировочные переносят наравне со всеми».
По датам события, связанные с назначением Лобановского, реконструируются следующим образом:
10 октября 1973 года, среда. Проигранный киевским «Динамо» в Москве финал Кубка СССР «Арарату».
11 октября, четверг. Щербицкий утром выговаривает Погребняку, Погребняк собирает «консилиум», на котором принимается решение уволить Севидова и поставить на киевское «Динамо» Лобановского. О решении Погребняк докладывает членам Политбюро ЦК КПУ во время традиционного обеда. Щербицкий решение одобряет.
Погребняк звонит в Днепропетровск в обком партии, ставит в известность первого секретаря обкома Алексея Фёдоровича Ватченко о принятом решении, просит сообщить об этом директору «Южмаша» Макарову, а затем звонит Лобановскому и вызывает его в Киев на понедельник, 15 октября.
12 октября, пятница. Мизяк приезжает на базу киевского «Динамо» в Конча-Заспу и объявляет Севидову об увольнении. С командой остаются Михаил Коман и Виктор Терентьев.
14 октября, воскресенье. «Динамо» играет в Киеве с «Зенитом» (2:0), а «Днепр» на своём поле — с московским «Динамо» (2:3) — последний матч Лобановского с днепропетровской командой.
15 октября, понедельник. Утренним рейсом Лобановский с Адой прилетают в Киев. Из аэропорта «Жуляны» Ада едет домой, Валерий отправляется в Спорткомитет Украины на короткое совещание с Куликом, а оттуда едет в ЦК на встречу с Погребняком. Договариваются встретиться на следующий день.
Лобановский звонит Базилевичу, рассказывает ему о сложившейся ситуации и предлагает поработать вместе. Базилевич отвечает согласием.
16 октября, вторник. В ЦК на встрече Погребняка с Лобановским присутствуют все члены «консилиума». Лобановский называет фамилию Базилевича. Договариваются о том, что официально оба тренера приступят к работе с «Динамо» 1 января 1974 года; неофициально же Лобановский начнёт знакомиться с командой и клубной инфраструктурой немедленно и в течение месяца будет готовить вместе с Базилевичем предложения по развитию «Динамо».
19 октября, пятница. Лобановский вместе с «Динамо» вылетает во Львов. Вечером перед ужином Кулик в номере люкс представляет команде Лобановского.
21 октября, воскресенье. В еженедельнике «Футбол-хоккей» (№ 42) в обзоре очередного тура журналист Лев Лебедев сообщает: «Кстати, старшим тренером команды стал сейчас В. Лобановский, сменивший на этом посту А. Севидова».
В 1973 году, если сравнивать с годом предыдущим, вопрос о перемещении в столицу республики решался иначе. Никакого зондирования. Лобановского вызвали в Киев. На Як-40 они с Адой, которой Валерий ничего не говорил о «Динамо» — сообщил только о совещании, прилетели утром в аэропорт «Жуляны». Ада поехала домой, Валерий — на короткое совещание в Спорткомитет, а оттуда прямиком в ЦК, к Погребняку. Никаких «да» или «нет». Только: «Вы должны возглавить “Динамо”».
«В октябре 73-го, — вспоминал Лобановский, — меня вызвали в Киев. Наверное, на очередное совещание, подумал я тогда, на день-два, не больше. Поброжу по родному осеннему городу, в котором бывал изредка, наездами, и по которому скучал, где бы ни находился.
Бродить не пришлось. “Мы давно следим за вашей работой в Днепропетровске и предлагаем вам возглавить киевское ‘Динамо’, — ошарашили меня. — Подумайте. С ‘Днепром’ мы все вопросы уладим”. Я позвонил Базилевичу и сказал: “Петрович, похоже, есть возможность поработать вместе”. — “Понимаю, — с присущим ему юмором ответил он, — тебя выгоняют из ‘Днепра’, и ты просишься в ‘Шахтёр’, который в турнирной таблице выше”. — “Если бы так. — Мне было не до смеха. — Речь идёт о киевском ‘Динамо’ ”. — “???” — “Да, именно так, мне только что сообщили об этом”, — сказал я. “Отказываться нет смысла”, — ответил Базилевич.
На следующей встрече с приглашавшими я твёрдо назвал фамилию Олега. “В какой роли?” — спросили меня. “Ещё одного старшего тренера”, — ответил я. “Но ведь в штатном расписании...” — “Неважно, как его должность будет называться на бумаге. Главное — в сути”. Договорились, что официально мы приступим^ работе с командой с января 1974 года. Пока же я буду постепенно знакомиться с ней, а Базилевич — заканчивать сезон в “Шахтёре”, который в итоге стал шестым в год дебюта в высшей лиге.
Были ли у нас сомнения? Конечно же. Связанные прежде всего с тем, что от киевского “Динамо”, пятикратного к нашему приходу в команду чемпиона, ждали (и всегда ждут) только самых высоких результатов. Гарантий от нас не требовали, да мы их и не дали бы — не страховое агентство, но сами-то понимали, что ничего иного, кроме как чемпионства, от нас не ждут.
Боялись ли мы? Нет, страха не было. Волнение — да. И нетерпение — скорее бы приступить к серьёзной работе.
Программное совещание, которое мы провели с Базилевичем и на котором выработали все основные принципы совместной деятельности, для себя шутливо окрестили “встречей в ‘Славянском базаре’”, памятуя обсуждение серьёзных творческих и вспомогательных вопросов между К. С. Станиславским и В. И. Немировичем-Данченко. В принципах мы определились, дело было за их реализацией с помощью наших новых партнёров по “футбольному производству”».
В тандеме, формально, в соответствии с регламентными нормами в штатном расписании, разбитом на «начальника команды» (предполагалось, что занимается он только воспитательной работой) и «старшего тренера», Базилевич всегда оставлял за Лобановским главенствующую роль. Хорошо знающий себе цену и уверенный в своих силах и уровне подготовленности, Олег Петрович называет Валерия Васильевича «бесспорным лидером» и говорит, что у него «даже в мыслях не возникало желания встать вровень с ним». Они сообща проводили установки на матчи: Базилевич знакомил команду с планом организации оборонительных действий команды, Лобановский — действий атакующих. «Мы оба, — говорит Базилевич, — вели процесс, и оба несли за него ответственность. Никогда не возникал вопрос, кто более, а кто менее авторитетен, так как я никогда не забывал, что нахожусь в роли второго лица... Надо сказать, Васильич ни разу не дал почувствовать, что он к моим функциональным обязанностям относится без должного уважения».
Футболисты, соглашаясь с тем, что в тандеме наблюдалось равенство, что Лобановский и Базилевич дополняли друг друга, тоже отмечают тем не менее заметное лидерство Лобановского, хорошо знавшего, как выстроить работу и с наибольшей эффективностью воплотить в жизнь замыслы — свои и Базилевича.
В условиях абсолютного единоначалия в Советском Союзе во всех сферах жизни тандем из двух старших тренеров в киевском «Динамо» выглядел, мягко говоря, непривычно. Все спрашивали: кому в тандеме принадлежит последнее слово? Никому. Все решения Лобановский и Базилевич принимали вдвоём, обсуждая их только между собой. Творческие споры окрыляли их, делали сильнее, продвигали в профессии вперёд. Даже во время игр, когда необходимо было вносить коррективы в действия команды, они сначала обменивались мнениями, а затем либо производили замены, либо уточняли функции того или иного футболиста на поле. Возглавить киевское «Динамо» пригласили, понятно, Лобановского, но Базилевич, когда Лобановский позвал его поработать вместе, никогда бы, уходя из «Шахтёра», ставшего при Олеге Петровиче вполне конкурентоспособной командой, не согласился на роль второго тренера. Даже при Лобановском. Лобановский, впрочем, и не предложил бы ему занять вторую позицию. Только — вместе. Иной подход характер их взаимоотношений и уровень профессионализма исключали. «Мне очень больно, — говорил спустя десятилетия после динамовского триумфа в середине 70-х Базилевич, — когда команду 1975 года называют командой Лобановского». Боль Базилевича понятна, потому что ту великую команду сделали они оба. И сам Лобановский никогда не называл её своей. Он, надо сказать, ни одну из команд, которые тренировал, не называл своей. Только — «нашей».
Последнее слово принадлежало обоим, но с кого следовало, в случае неудачи, спрашивать? Если два года подряд (1974 и 1975) спрашивать было не за что — сплошные поощрения, то в 1976-м, когда всё, что сделали и «Динамо», и сборная страны, включая бронзовые медали монреальской Олимпиады, было названо «провалом», спросили по полной программе. Со всех. Олег Петрович, правда, считает, что спросили только с него одного, но говорит он это лишь потому, что его после знаменитого бунта-76 отправили в отставку, а Лобановского оставили.
«Но кто не мечтал бы работать в “Динамо”! — вспоминает о той поре Олег Базилевич. — От таких предложений не отказываются. Правда, была одна загвоздка: ни до, ни после мы не сталкивались с подобным прецедентом. В спортивном руководстве прямо так и заявили: “Два самостоятельных тренера — что два медведя в одной берлоге”».
Несмотря на записи в штатном расписании, работу на равных зафиксировали в официальном документе — в 1975 году в постановлении Президиума Верховного совета УССР о поощрении футболистов и тренеров киевского «Динамо»: «За заслуги в развитии отечественного футбола, завоевание Кубка обладателей Кубков европейских стран наградить: Почётной грамотой Президиума Верховного Совета Украинской ССР Базилевича Олега Петровича — старшего тренера, Лобановского Валерия Васильевича — старшего тренера».
Базилевич, несмотря на то что они с Лобановским достаточно хорошо знали друг друга и считали себя единомышленниками, с изрядной долей настороженности отнёсся к предложению совместной работы. Лобановский, однако, чётко сформулировал и обосновал свою идею: «Порознь выйти на более высокий уровень в современном футболе, работая с исполнителями иного класса, нежели в “Днепре” и “Шахтёре”, нам в ближайшее время вряд ли удастся. Значит, необходимо сложить наш потенциал, объединить наши наработки, “слить” наши “лаборатории” в одну и попытаться осуществить прорыв». Лобановскому удалось убедить руководителей («Как ему удалось сделать это, не знаю, — говорит Базилевич. — Убедить меня, что “игра стоит свеч”, ему было проще») — вопрос о тандеме был одним из первых, поставленных им во время разговора в ЦК.
Он «всё продумал до мелочей, — говорит Базилевич. — Что касается дележа чего-то, то уровень взаимоотношений у нас был иной: видимо, в детстве нас родители хорошо воспитывали... Кроме того, у нас была общая цель. Что касается идеи, которую мы собирались реализовать, то для этого необходимо было до мелочей продумать чёткую организацию процесса, создать новую инфраструктуру. И в этом Лобановский оказался непревзойдённым специалистом!
Кроме теоретических разработок следовало создать в команде соответствующий микроклимат, чтобы люди, доверившие нам свои судьбы, своё здоровье, свои таланты, стали нашими единомышленниками. Всё, что было задумано, можно было реализовать лишь на взаимной деловой основе. Создавалось впечатление, что он спланировал шахматную партию — так чётко всё было просчитано».
Первое появление Лобановского в киевском «Динамо» в тренерском статусе обрастало домыслами; одна версия опережала другую, фактами не подтверждённую по простой причине — отсутствию достоверной информации, характерной составляющей не только советского футбола, но и остальных сфер человеческой деятельности.
Одну из таких историй выдумал (другого слова не подобрать) Аркадий Галинский. Самому Лобановскому отводилась в ней роль бессловесного статиста, способного без лишних вопросов одобрить действия Александра Петрашевского, «администратора» (так назвал его автор, резко принизив статус специалиста и даже, можно сказать, унизив его), команды, в которой тот тогда работал, — днепропетровского «Днепра». (Но Петрашевский никогда не был администратором. Если и приходилось ему — в киевском «Динамо» — в каких-то частных случаях выполнять на первых порах администраторские функции, то точно так же эти функции выполняли и Базилевич, и Лобановский. И так продолжалось до тех пор, пока на посту администратора не появился Григорий Спектор).
Петрашевский — из Днепропетровска. Играл в местных командах «Машиностроитель» и «Металлург», уезжал в тбилисское «Динамо» и ярославский «Шинник», сезон 1965 года провёл в составе «Днепра». Окончил Киевский институт физкультуры. Работал тренером в группе подготовки «Днепра», затем — в первой команде, где был помощником Лобановского. И в Киев его с собой Лобановский брал в роли тренера. За выход «Днепра» в высшую лигу Петрашевскому присвоили звание «Заслуженный тренер УССР». Евгений Рудаков рассказывал, что с ним после прихода Лобановского в «Динамо» постоянно занимался Петрашевский (тогда не было специальных тренеров и научно обоснованных упражнений для вратарей): отрабатывал угловые, стандарты, фланговые передачи. «Весь зимний подготовительный период перед сезоном 1973 года, — свидетельствует Олег Базилевич, работавший в то время с донецким «Шахтёром», — у меня в команде провёл помощник Лобановского в “Днепре”, наш общий друг и единомышленник Александр Петрашевский. Смотрел все мои тренировки и контрольные матчи, делал записи. Нам на самом деле нечего было скрывать друг от друга — мы понимали тогда, что создаётся принципиально новая система подготовки футболистов и организации игры и свободный обмен идеями может только помочь ей утвердиться».
Но вернёмся к версии Галинского. В течение десяти лет он, по его собственным словам, размышлял на эту тему, «и вот однажды летом 1984-го, — пишет Аркадий Романович, — пришла мысль: а не связаны ли вызовы Лобановского в Киев и назначение его тренером “Динамо” с тем, что приятель Лобановского — администратор “Днепра” Петрашевский — является, в свою очередь, близким другом Валерия Щербицкого, сына первого секретаря ЦК КП Украины? Разыскать Петрашевского труда не составило, и вот уже он охотно и весело рассказывает, как было дело. Мне, говорит Петрашевский, очень хотелось перебраться в Киев, да только я не знал, как можно это сделать, не имея там жилья! Но как-то подумалось, что всё решилось бы наилучшим образом, если бы тренером киевского “Динамо” вместо Севидова стал Лобановский. А дальше уже сработала, по словам Петрашевского, его давняя дружба с Валерием Щербицким... Этот рассказ я записал, с согласия Петрашевского, на магнитофонную плёнку и вот слушаю: “Не было бы Петрашевского, — смеётся бывший администратор “Днепра”, — не было бы и тренера киевского “Динамо” Лобановского!».
В день публикации этой «конструкции» Галинского в «Советском спорте», 27 сентября 1991 года, мне позвонил возбуждённый Петрашевский и буквально выкрикнул: «Ты же понимаешь, я ничего этого не говорил! Галинский всё придумал! Надо что-то делать! Надо немедленно давать опровержение этой фразы!» — «А что опровергать, Алик? — мягко спросил я. — Магнитофонную запись?»
Я ни секунды не сомневался в том, что разговор с Петрашевским Галинский записал на магнитофон, подключённый у него дома к телефону. (Он записывал почти все телефонные разговоры. Чаще всего — без предупреждения). Ни секунды не сомневался я и в том, что Аркадий Романович, как всегда, изложил сказанное Петрашевским так, как ему было выгодно, и добавил при этом от себя то, что посчитал нужным. Вовсе не случайно он в качестве прямой речи привёл только одну фразу: «Не было бы Петрашевского, не было бы и тренера киевского “Динамо” Лобановского!» Эту фразу Петрашевский, не всегда, надо сказать, адекватно оценивавший свою роль при знаменитом тандеме киевского «Динамо» и считавший иногда, что то был не тандем, а триумвират, вполне мог произнести. Но он и предположить не мог, в каком контексте она будет преподнесена публике!
Первый раз Галинский поведал о версии с Петрашевским на страницах киевской газеты «Комсомольское знамя» 20 марта 1991 года. Повторил он её спустя полгода — 27 сентября — в «Советском спорте». Потом дублировал регулярно в различных московских изданиях. В «Советском спорте» Галинский сообщил: «Всю эту историю я рассказал примерно полгода назад в киевской газете “Комсомольское знамя”, и опровержения до сих пор не последовало, хотя, как мне сообщили киевские коллеги, с публикацией ознакомились и Лобановский, и сын Щербицкого — Валерий».
Лобановскому и в голову не могла прийти мысль вообще что-то опровергать. Тем более — несусветные домыслы Галинского. Лобановский работал тогда в Эмиратах. О публикации в «Комсомольском знамени» ему рассказали. В разговоре со мной по этому поводу он только смеялся: «Ну Алик и даёт!.. Повеселил. Зачем вот только?..»
Сын же Щербицкого Валерий при всём желании не мог ни прочесть публикацию, ни опровергнуть её: за два месяца до этого, 22 января 1991 года, на 45-м году жизни он скончался и был похоронен на Байковом кладбище. Коллеги, на которых ссылается Галинский, подвели его, а сам он привычно не удосужился проверить факт, в конструкцию им прочно встроенный и на неё работавший.
И вот уже версию Галинского повторяет в собственном изложении журналист Василий Андреев в издававшемся в нулевые годы еженедельнике «Футбол. Хоккей» (не путать с традиционным «Футболом-хоккеем»): «...дружил молодой Петрашевский с сыном Щербицкого, первого лица украинской компартии. Сын, если верить Галинскому, сидел на наркотиках — и потакал отец всякой его слабости. Лишь бы вытянуть из пропасти. И задумал Петрашевский через приятеля скинуть Севидова. А на его киевское место поставить Лобановского. С ним перебраться в “Динамо”, ездить, зарабатывать, первая команда республики, лицо Украинской ССР... План сработал на все сто». Такое вот развитие «сказки», сочинённой Галинским, которого Андреев называет «первым врагом» Лобановского (вот только Валерий Васильевич об этом не знал...).
Вообще-то если исходить из версии Галинского, то всё должно было произойти ещё поздней осенью 1972 года, но тогда, как мы помним, состоялся лишь предварительный разговор помощника Щербицкого с тренером «Днепра». А ведь все обстоятельства уже тогда складывались в пользу жёсткого решения «хозяина» — Владимира Щербицкого — о немедленном переводе Лобановского из Днепропетровска в Киев. Во-первых, если верить Галинскому, сын Валерий попросил папу — В. В. Щербицкого — заменить Севидова и поставить на его место Лобановского только для того, чтобы в Киеве наконец-то смог получить хорошую работу и жильё Петрашевский. Во-вторых, чемпионат СССР 1972 года Севидов проиграл. Мало того что это произошло в первый же год работы Щербицкого на новом посту (с 25 мая 1972 года), так ещё и проигран был турнир не кому-нибудь, а «Заре» из Ворошиловграда, в котором областную партийную организацию возглавлял недруг Щербицкого, его тёзка Владимир Васильевич Шевченко. И, наконец, сам Лобановский показал в «Днепре» высокий уровень тренерской работы, сначала выведя команду в высшую лигу, а потом, в первый же сезон, заняв шестое место с отставанием от второго призёра чемпионата, кстати, киевского «Динамо», всего на одно очко. Но в том-то и дело, что версия — сочинённая!
А ещё добавил бы попутно, что если бы Петрашевский через сына Щербицкого имел такое колоссальное влияние на первого секретаря ЦК компартии Украины, то, наверное, он бы не пострадал вместе с Базилевичем после бунта 1976 года.
Итак, Севидова сняли, и сезон 1973 года команда завершала с Михаилом Команом и Виктором Терентьевым, но с ней уже ездил, не на все, правда, матчи, Лобановский. «В тренировочный процесс, — вспоминает Решко, — он не вмешивался. Первую тренировку с нами провёл накануне ответного — выездного — матча Кубка УЕФА против “Штутгарта”». На своём поле динамовцы выиграли 2:0 и имели неплохие шансы на выход в «еврокубковую весну». За сутки до игры в ФРГ Лобановский основательно погонял команду, нагрузив её скоростной работой. «На мой взгляд, — весьма неожиданным образом объясняет Решко проигрыш «Штутгарту» со счётом 0:3, не позволивший «Динамо» пройти дальше, — Валерий Васильевич это поражение спровоцировал сознательно. Чтобы начать 1974 год с нуля. Лобановский с Базилевичем собирались воплощать свои программы, научный подход. А подготовкой к еврокубкам форму пришлось бы форсировать. Иными словами, тренеры сделали всё, чтобы “Штутгарт” мы не прошли. Также тогда были заморозки, скользкое поле. Подогрева газона ещё не применяли, а мы имели только по одной паре бутс. Это усложняло задачу. Соперники вышли на прилипках, а мы — на шипах. Немцы лучше держались на ногах».
По силам ли было тренеру смоделировать одно-единственное занятие команды таким образом, чтобы «спровоцировать» её поражение с необходимым сопернику счётом и «сделать всё», чтобы не пройти «Штутгарт»? Прежде чем ответить на этот вопрос, следует, полагаю, обратить внимание на три немаловажных обстоятельства.
О первом сообщил Решко: немцы лучше стояли на ногах, поскольку у них была более пригодная для игры на скользком поле обувь. Второе — отсутствие у киевских футболистов игровой практики на протяжении длительного времени. Чемпионат страны команда завершила 1 ноября матчем в Ташкенте с «Пахтакором». В течение последующих шести недель, до ответной встречи в Штутгарте, киевляне выходили на поле лишь дважды: 7 ноября в Дании в матче Кубка УЕФА с «БК 1903» и 27 ноября в Киеве, когда они принимали «Штутгарт» на своём поле. Очень мало для футболистов, которые постоянно должны быть в игровом тонусе! И, наконец, Лобановский выставил в Штутгарте сильнейший на тот момент состав, две недели назад обыгравший немецкий клуб. Никаких признаков безразличия к игре со стороны динамовцев не наблюдалось. При счёте 0:0 только феноменальная реакция вратаря «Штутгарта» Хайнца спасла его команду от гола после коварного удара Мунтяна. Хозяева поля с огромным трудом за две минуты до перерыва сумели «пробить» великолепно игравшего Рудакова. И лишь блестящие слаженные командные действия «Штутгарта», показавшего, по утверждению западногерманского журналиста Ханса Блинкенсдорфера (отчёт которого опубликовал еженедельник «Футбол-хоккей»), лучшую игру в сезоне, помогла немцам додавить гостей в концовке матча — третий гол был забит на 87-й минуте.
Ну а что же футболисты «Динамо»? Как только игроки узнали о приходе новых тренеров, они моментально, в своём кругу, составили мнимый «список» на отчисление, который Лобановский с Базилевичем якобы уже положили на стол высокопоставленных руководителей как одно из выдвинутых ими условий, необходимых для обязательного выполнения.
На самом деле Лобановский и Базилевич не составляли никакого списка. Изучив состав «издали», они, как говорил Лобановский, пришли к выводу: состав вполне боеспособен. Полностью устраивало их и такое немаловажное обстоятельство, как возможность варьировать именно с этой группой игроков задуманными тактическими вариантами. Для их реализации дополнительно требовался лишь один высококвалифицированный футболист опорной зоны. Он — Анатолий Коньков — и был приглашён из донецкого «Шахтёра». Возможности Конькова хорошо знал работавший в Донецке Базилевич.
Кроме того, Лобановский и Базилевич даже в мыслях не допускали начинать свою деятельность в киевском «Динамо» с отчислений. Лобановский, о чём свидетельствует вся его тренерская карьера, всегда слыл категорическим противником отчислений игроков и прибегал к этой крайней мере в редчайших, исключительных случаях — лишь тогда, когда понимал: ничего уже поделать нельзя.
Между тем разговоры о мифическом «списке» не утихали даже после ухода Лобановского из жизни. Владимир Мунтян, например, утверждает, что проходил в этом списке под «первым номером» и именно это послужило началом его «трений» с Лобановским. «Перед товарищеской встречей “Динамо” в Днепропетровске с “Днепром”, который тренировал Лобановский, — рассказывает Мунтян, — я утром выпил с друзьями. Выйти на матч, естественно, уже не мог. Этот случай, когда я подвёл ребят, из биографии, конечно, не вычеркнешь».
В Киеве Мунтяну устроили тогда разнос. Приехавший на собрание заместитель председателя Совета министров Владимир Семичастный вопрошал: «Как посмел кандидат в партию выпить стакан водки?» И вдруг в «Динамо» появляется Лобановский, которому, конечно же, доложили о прегрешениях Мунтяна. Но Лобановскому с Базилевичем, повторюсь, и в голову не приходило составлять какие-то «списки», реагируя таким образом на поступившие «сигналы». Мунтян же за четыре сезона, проведённых в «Динамо» при Лобановском, мало того что играл столько же, сколько при Маслове и Севидове, так ещё и титулов (три чемпионата страны, Кубок СССР, европейский Кубок обладателей кубков и Суперкубок Европы) выиграл за четыре года больше, чем за предыдущие девять лет.
«Надо отдать Лобановскому должное, — говорит Мунтян. — Несмотря на некоторые разногласия между нами, он предоставил мне, тридцатилетнему ветерану, возможность выходить на поле в основном составе. Хотя мог бы обидеться, отправить надолго в запас и, в конце концов, поставить на мне крест. Но он этого не сделал».
После всех сложностей, возникших в «Динамо» в 1976 году, Мунтян решил уйти сам, но потом, отдохнув в Кисловодске, решение поменял и заработал вместе с командой свою седьмую золотую медаль чемпиона Советского Союза. «Спасибо Васильичу!» — не устаёт повторять футболист.
Лобановский всегда считал Мунтяна высококлассным игроком. Несколько матчей они провели вместе за дубль в 1964 году, когда Маслов выставил Лобановского из основного состава. Мунтян вспоминает, как однажды Лобановский не стал бить пенальти, а предложил сделать это ему. Мунтян не забил, но услышал от Лобановского не критические, а поощряющие слова: «Ничего, в следующий раз получится».
«Дабы освободить в киевском “Динамо” должность для Петрашевского, — продолжал гнуть «свою линию» Аркадий Галинский, — был столь же бесцеремонно (как Севидов? — А. Г.) вышвырнут оттуда один из наиболее опытных и честнейших футбольных администраторов — Рафаил Фельдштейн». (Галинский продолжает упрямо называть Петрашевского «администратором» даже несмотря на то, что с первого дня пребывания в динамовской команде он занимал должность тренера, для которой ничего освобождать не требовалось.)
В этом утверждении Аркадия Романовича всё смешано в одну кучу. Нет никаких оснований сравнивать увольнения Севидова и Фельдштейна. Севидова отправило в отставку партийное и спортивное руководство Украины. Поисками же нового персонала для команды — в частности, врача, массажиста и администратора, как это всегда и везде происходит в ситуациях с кардинальными переменами, занялись Лобановский и Базилевич.
Лобановский обзвонил многих специалистов, в том числе главного футбольного врача страны Савелия Мышалова, чтобы узнать, например, их мнение о молодом докторе из Кемерова — Владимире Малюте, рекомендованном в «Динамо». После перехода из кемеровской больницы в футбольную команду Владимир Игоревич, к слову, «задержался» в киевском клубе на сорок с лишним лет.
Фельдштейна Лобановский и Базилевич хорошо знали. Он работал в команде несколько десятилетий («Мне, — говорил он, — оставалось четыре месяца до сорока лет в “Динамо”, что они, потерпеть не могли?») и выдавал обоим форму ещё тогда, когда они сами играли.
Новые тренеры, возможно, и оставили бы Фельдштейна на какое-то — переходное — время, хотя и видели на этом месте нового, энергичного человека. Но Рафаил Моисеевич сам помог им принять то решение, которое они приняли. Фельдштейн, продолжая оставаться в штате команды, принялся рассуждать об ошибочности замены Севидова молодым, неопытным тренером, ничем себя не проявившим. Нов коллективе, который намеревались создать тренеры, вовсе не требовался администратор, разваливавший всё изнутри. Так что Фельдштейна никто не «вышвыривал». Он сам всё сделал для прекращения своей работы в клубе. Преемником Фельдштейна стал Григорий Иосифович Спектор, которого тренеры других клубов, в частности Константин Иванович Бесков, ставили в пример своим администраторам.
В Киеве, стоит заметить, пошли разговоры о том, что Лобановский и Базилевич расстались с администратором команды только по национальному признаку: потому, что он — Фельдштейн. «Но ведь я тоже, — говорил на это Григорий Иосифович, — Спектор!»
Первые же рабочие дни под управлением Лобановского и Базилевича в январе 1974 года запомнились футболистам своей необычностью. Стоит сказать, что сезон тот динамовцы, по сути, начали в декабре, когда после короткого отдыха приступили к индивидуальному выполнению плановых заданий тренеров. Перед уходом в отпуск каждый футболист получил листочек, на котором было расписано, сколько и чем необходимо заняться во время отдыха. Это была новая форма работы, суть которой сводилась к принципу: ни одного потерянного часа. Поэтому, когда сразу после Нового года команда собралась вновь, все были уже в таком функциональном состоянии, которое позволяло немедленно, без раскачки, включиться в работу. Потекли обычные тренировочные будни. С той лишь разницей, что нагрузки сразу оказались очень высокими.
Необычным было всё: интенсивность занятий, их объём. Перед каждой тренировкой Лобановский и Базилевич проводили своего рода установку: детально рассказывали, что предстоит сделать, в каком порядке, на что будет направлено занятие. Предыдущие тренеры, разумеется, тоже составляли планы тренировок, но игрокам ничего не объясняли. Когда начался сезон, футболистам сразу стало понятно, на каком высоком уровне функционального состояния они пребывают. Они признавали: работа была проведена не зря.
22-летний Блохин и 20-летний Буряк спорили, терпеть ли дальше «жестокие, невыносимые», как казалось тогда молодым людям, нагрузки Лобановского или же всё бросить. Спорили, а потом терпели, стиснув зубы. И не только они, но все киевские динамовцы 70-х годов. Затёртое донельзя в XXI веке определение «легендарные» более чем применимо к игрокам того киевского «Динамо» — Рудакову, Трошкину, Фоменко, Решко, Матвиенко, Буряку, Конькову, Колотову, Веремееву, Мунтяну, Онищенко, Блохину.
А роптали поначалу, потому что никогда прежде ни один из динамовцев с такими нагрузками не сталкивался. «Мы, — вспоминает Онищенко, — ещё недопонимали, что так тренируется организм, закаляется характер». Но футболистов подкупало то, что делом это было новым, и со временем, говорит Онищенко, «мы уже не мыслили себе, как можно работать иначе». Когда Лобановский приглашал в сборную игроков из других клубов, киевские динамовцы посмеивались между собой, наблюдая, как тяжело их партнёры переносят нагрузки, ставшие для них обыденными.
Юрий Севидов, сын Александра Севидова и сам известный в своё время футболист и футбольный обозреватель, с присущей ему безапелляционностью писал в июне 2006 года в газете «Советский спорт»: «Многие сейчас твердят: Блохин — приверженец идей Лобановского, его последователь. Это в корне неверно. Ещё в 1975-м, выслушав перед матчем очередную установку Валерия Васильевича, Олег обращался к выходящим на поле партнёрам примерно с такой фразой: “Ребята, забываем половину из того, что нам сейчас сказали!” А на сборах часто можно было видеть Блохина, пропускающего тренировки из-за какой-нибудь травмы. “А я что, идиот — вкалывать в таком режиме? — говорил звёздный форвард. — Лучше ногу немного подвернуть и побольше отдохнуть, чем загибаться неизвестно зачем!..” На мой взгляд, эти случаи лучше всего иллюстрируют отношение нынешнего наставника украинской сборной к тренерским постулатам Лобановского».
«Случаи», выбранные Севидовым для иллюстрации собственных представлений о происходившем, — чистой воды выдумка. Многие недоброжелатели Лобановского и сейчас считают, что в конце 73-го молодой тренер пришёл в Киев на «готовое место», воспользовавшись трудами Александра Севидова.
О «готовности» места можно спорить. Ясно, разумеется, что киевское «Динамо» не походило на руины в момент появления в команде Лобановского. И Лобановский всегда подчёркивал, что начинал не с нуля, что напряжённая работа велась и до него, что, наконец, в'«наследство» он получил вполне конкурентоспособный коллектив. Однако в тренерском деле Лобановский преуспел куда больше, чем Александр Александрович. Это факт очевидный.
Но вернёмся к Блохину.
Во-первых, он никогда не входил в число игроков, придумывавших травмы. За все годы работы в киевском «Динамо» под руководством Лобановского (а это 14 лет!) Блохин пропустил не так уж и много тренировок. Все его травмы носили чисто игровой характер. Для того чтобы удостовериться в этом, достаточно полистать журналы занятий и поговорить с клубными докторами Виктором Берковским и Владимиром Малютой, а также с неизменным врачом советской сборной той поры Савелием Мышаловым. Против Киева всегда играли грубо. Средний показатель травматизма в «Динамо» во второй половине 70-х годов пребывал на цифре 30 эпизодов за сезон. Регистрировались, понятно, только серьёзные повреждения: переломы, рваные раны, сильные ушибы. Чаще всего в журнале встречались фамилии Колотова, Веремеева, Мунтяна, Онищенко, Блохина — основных игроков группы атаки. В 75-м, например, в Ереване незадолго до финала Кубка кубков Блохину распорол ногу защитник «Арарата», жестоко сыграв в ногу. Пришлось зашивать глубокую рану на икроножной мышце, врач наложил несколько швов. В 79-м Блохин попал в знаменитую московскую клинику спортивной и балетной травмы ЦИТО (Центрального института травматологии и ортопедии). Операцию, длившуюся более часа, делала Зоя Миронова. Никита Симонян сказал тогда Блохину: «Хороших форвардов били всегда. Бьют и будут бить».
В молодые годы форвард исправно трудился на всех тренировках, в том числе и во время тяжёлых сборов. Время от времени, понятно, ныл, особенно поначалу, жалуясь на непривычные нагрузки. Но кто в киевском «Динамо» с приходом Лобановского и Базилевича не ныл?
Во-вторых, в 75-м году Блохин не имел ещё такого авторитета в киевском «Динамо», чтобы после установки предлагать партнёрам «забыть» о требованиях тренеров. Пусть даже он и бурчал постоянно — зачастую только потому, что привык так — бурчанием — реагировать на всё, что происходило вокруг (таким, к слову, он оставался и в тренерской жизни — работа его со сборной Украины с первых же дней перенасыщена примерами подобного рода). Но можно только представить, как бы отреагировали на подобные «установки» Блохина перед каким-либо европейским кубковым матчем ветераны — Рудаков, Трошкин, Фоменко, Решко, Матвиенко, Мунтян, Колотов, Веремеев, Коньков!
Что же до отношения Блохина к «тренерским постулатам Лобановского», то на той же странице «Советского спорта», на которой выступил Севидов-младший, партнёр Блохина по сборной СССР Олег Протасов, тренировавшийся у него в Греции, сказал следующее: «Тогда (в Греции, в «Олимпиакосе». — А. Г.) его методы были похожи на методы Лобановского. И это нормально — он только начинал тренерскую деятельность, а потому черпал многое именно у Валерия Васильевича, под руководством которого отыграл много лет. А сколько ещё людей училось у Лобановского! Все же основы оттуда».
В 1974 году в «Динамо», помимо прочих нововведений, был создан беспрецедентный для Советского Союза информационный футбольный центр, который возглавил Михаил Ошемков, сын Олега Александровича Ошенкова (у отца однажды при замене документов нерадивым паспортистом буква «м» в фамилии была заменена на «н»). Ничего подобного не было даже в Москве. «По глубине и обширности тематики, — говорит Ошемков, — мы не уступали даже хвалёному “банку информации” поляков, возглавляемому Яцеком Гмохом», — а этот банк, надо сказать, славился на всю Европу.
Михаил Ошемков хранит дома фотографию, на которой запечатлёны его отец — Олег Александрович — и молодой тогда тренер «Днепра» Валерий Лобановский: они были в одной группе советских футбольных специалистов, выезжавших на чемпионат мира 1970 года в Мексику в качестве наблюдателей. Разглядывая привезённое отцом фото, Михаил и предположить не мог, что уже следующий чемпионат мира он будет не только смотреть по телевизору, но и записывать на видео, параллельно изучая иностранную прессу по заказу Лобановского и под руководством Лобановского. Они познакомились ещё в 1959 году, когда двадцатилетний Лобановский играл в команде, которую тренировал Ошенков-старший. Но тогдашняя встреча получила продолжение лишь осенью 1973-го. Михаил работал тогда в лаборатории научной информации Киевского института физкультуры и по собственной инициативе предложил Лобановскому подробнейшие сведения о сопернике «Динамо» по 1/8 финала Кубка УЕФА — западногерманском клубе «Штутгарт». С 1 января 1974 года Ошемков был зачислен в штат «Динамо». И летом записывал матчи чемпионата мира, в том числе и те, которые советским телевидением не транслировались, — ездил для этого в Ужгород, принимавший телесигнал из Венгрии, где показывали все игры.
С самого начала Лобановскому хотелось знать особенности игры защитников, против которых он выходил на поле, особенности команды, с которой предстояло сражаться. Только тогда можно придумывать, как обыграть противника. «В “Днепре”, — вспоминал Лобановский, — одной из наших целей было — владеть подробнейшей информацией о соперниках по первой лиге. Я чувствовал себя не в своей тарелке, если мало знал о тех, с кем через час предстояло играть. Это доходило до суеверия. Словно вышел на люди в мятых брюках или в рубашке с оторванной пуговицей. С годами это чувство обострилось и — стал замечать — иногда перерастало в чувство неуверенности, не страха, а именно неуверенности. А ведь это состояние, как ни маскируйся, и футболистам передаётся, особенно тем, с которыми давно работаешь и которые знают малейшие нюансы твоего поведения, даже если ты молчишь».
К счастью, в киевском «Динамо» дело было налажено таким образом, что подобные ощущения у команды возникали весьма и весьма редко. Всей информацией ведал там Ошемков. В его обязанности входили запись игры соперников на видеоплёнку, обработка зарубежной прессы, сбор сведений из других источников.
Одним из высокопоставленных кураторов киевского «Динамо» во второй половине 60-х — первой половине 70-х был бывший глава КГБ СССР Владимир Семичастный. «К команде киевского “Динамо”, — вспоминал он, — я имел самое непосредственное отношение. По существу, 14 лет был её шефом. Сын Щербицкого, когда отдыхал в Крыму, каждый день по три раза мне звонил: “Ну, что?”». На видном месте в своём домашнем кабинете Семичастный держал фотографию, на которой он запечатлён вместе с киевским «Динамо».
От Семичастного в плане выполнения так называемого «протокола», обсуждавшегося на традиционных посиделках в Конча-Заспе, зависело очень многое. Его подпись позволяла получать квартиры, машины, импортную одежду, премии, поощрения.
Семичастный подтверждает, что Лобановский никогда не слушал указаний чиновников: ни советских, ни партийных. Как бы те ни нажимали, он всегда стоял на своём. Семичастному Лобановский звонил нечасто. Только в случае возникновения форс-мажорных ситуаций, вызванных непонятным для него несоблюдением договорённостей, касающихся выполнения условий для того или иного футболиста, особенно для только что приглашённого в «Динамо» именитого новичка. Бюрократическая машина на уровне среднего ряда чиновников не могла не давать сбои, приходилось обращаться наверх. И по свидетельству Семичастного, Лобановский «всегда добивался своего!».
Сам Щербицкий на предматчевые встречи никогда в Конча-Заспу не приезжал. Перед каждой киевской игрой, за сутки с небольшим до её начала, из центра Киева за город отправлялись три чёрные «Волги». В них находились доверенные лица украинского партийного руководителя. Состав высокопоставленных посетителей клубной базы время от времени менялся — в зависимости от кадровых перемен, проводившихся сверху. В него по должности входили ответственные работники ЦК КПУ, Совмина и МВД. Уровень — заведующие отделами ЦК и генералы. Чаще других приезжали секретарь ЦК КПУ Погребняк, первый заместитель председателя Совета министров УССР Семичастный, первый заместитель министра внутренних дел Катаргин, заведующий отделом агитации и пропаганды ЦК Возианов, его заместитель Ельченко, заведующий сектором физкультуры и спорта этого же отдела Клопов и председатель Спорткомитета Украины Бака.
Сразу за Чапаевкой кортеж поворачивал налево и въезжал на территорию базы. У главного входа машины притормаживали, гости выходили и не спеша направлялись по короткой аллейке к подъезду. Их непременно встречал администратор команды, по скрипучей лестнице провожал на второй этаж — в тренерскую. Если делегация заставала кого-либо из игроков за бильярдом — стол стоял в широком коридоре, переходившем в гостиную, — то все здоровались за руку, улыбались, спрашивали, как дела. Футболисты за глаза именовали делегацию «кавалькадой».
Дорогу гости, конечно, знали и сами, но без сопровождающего не делали ни шагу. В тренерской у каждой организации было своё место. Представитель ЦК садился за столиком, за которым располагался во время беседы Лобановский. На встречу выделялся час — так было заведено издавна. Лобановский появлялся перед посетителями ровно в 12 часов. Высокий, подтянутый, спокойный, серьёзный, с диковинной тогда деловой тетрадью в руках: он начал пользоваться ежедневником, который ему привозили из-за границы, когда о них в стране толком и не ведали, в начале 70-х. Тренировочный костюм, что называется, с иголочки, на кроссовках ни пятнышка. Излучавший уверенность Лобановский был моложе всех гостей. Поздоровавшись с каждым за руку, он садился и приступал к разговору.
Для Лобановского эти встречи были важны. Он стремился выжать из них максимум полезного для клуба. Часовые беседы выстраивал так, как считал нужным, но гостям при этом казалось, будто они сами структурируют её.
В самом начале Лобановский рассказывал о том, как идёт подготовка к игре, о травмированных, о сильных и слабых сторонах соперника. Потом в ход шла домашняя заготовка, предназначавшаяся для «убийства времени», — Лобановский не любил многословные суждения дилетантов, по-детски радовавшихся возможности высказать своё мнение одному из самых образованных тренеров Советского Союза.
Чаще всего останавливался на какой-то серьёзной статье — не обязательно на футбольную тему — из советской периодической печати. Плавно подведя к ней своё вступление, говорил примерно следующее: «Все вы, конечно же, читали нашумевшую статью... Так вот...» И дальше шло обстоятельное цитирование статьи — с выводами, применимыми к действительности. Лобановского слушали, не смея перебить. Во-первых, темой никто из приехавших не владел; во-вторых, срабатывал пиетет перед футболом. Представители власти — те же болельщики. Они были допущены в святая святых — на базу киевского «Динамо», — видели живьём кумиров публики и встречались с самим Лобановским.
Люди от Щербицкого между тем наделялись самыми широкими полномочиями касательно помощи «флагману украинского футбола». Лобановский никогда об этих полномочиях не забывал и после своей «домашней заготовки» напоминал собравшимся о договорённостях, достигнутых на предыдущих встречах. Он называл эти договорённости «протоколом», хотя, разумеется, на бумаге никто ничего не фиксировал и подписями не скреплял. «В соответствии с предыдущим протоколом...» — говорил Лобановский и напоминал о том, что так и не поменяли пока одному игроку двухкомнатную квартиру на трёхкомнатную, другому не продали машину, третьему... и т. д.
В блокнотах делались пометки, туда же на исходе встречи заносился ориентировочный состав «Динамо» на завтрашний матч: сразу по возвращении в город листочек с отпечатанными на нём фамилиями одиннадцати динамовцев ложился на стол Щербицкому.
После встречи по традиции Лобановский провожал гостей в столовую на первый этаж. Стол был накрыт — закуски, борщ, сало, чеснок. «Если хотите, по 50 грамм, — предлагал тренер. — Я, к сожалению, не могу — скоро тренировка, надо к ней подготовиться».
После того как Леонид Кравчук возглавил отдел агитации и пропаганды ЦК КПУ, посещать команду перед матчами стал и он, особенно — перед матчами важными. «Мы, — рассказывает Кравчук, — собирали команду в зале и проводили самую примитивную накачку. Сегодня я бы себе никогда такого не позволил, но тогда это входило в должностные обязанности. Сейчас футболисты возмутились бы после первого же предложения, а тогда сидели и молча слушали. Я видел, что Лобановскому было крайне неприятно, но он ничего не мог поделать. К тому же он был человеком с хитринкой: понимал, что если я выступил, то взял долю ответственности на себя».
И так практически до самого отъезда осенью 1990 года в Эмираты Лобановскому постоянно приходилось заниматься тем, чем никогда не занимались его западноевропейские коллеги, восхищавшиеся профессиональной работой киевского тренера. Вот, к примеру, рутинное совещание 4 января 1990 года у секретаря ЦК КПУ Леонида Кравчука. Семнадцать приглашённых участников. В списке, в числе прочих, — первый заместитель председателя Совета министров Украины Анатолий Статинов, первый секретарь Киевского горкома партии Анатолий Корниенко, заместитель заведующего идеологическим отделом ЦК КПУ Владимир Барсук, заместитель министра торговли УССР Антон Маковей, заместитель министра внутренних дел УССР Андрей Василишин...
Совещание посвящено «вопросам обеспечения выступления киевского “Динамо” в 1990 году». Вопросы такие: предоставление квартир; установка квартирных телефонов (постановили: в 1990 году установить телефоны на квартирах тех игроков и обслуживающего персонала команды, кто получит жильё); приобретение личного автотранспорта; организация торговли промтоварами с учётом настоятельной просьбы команды оказать помощь в приобретении мебельных гарнитуров согласно списку, который будет предоставлен руководством команды; организация торговли продовольственными товарами.
На совещании назначили — из числа присутствовавших — исполнителей-контролёров по каждому пункту, определив их в графу «оказывает помощь».
Во второй половине 70-х годов возник заметный, но публично не обсуждавшийся конфликт в подходах к подготовке футбольных команд. Одна сторона конфликта была представлена киевским «Динамо», продолжавшим во главе с Лобановским развивать выбранное направление. Другая — почти всеми остальными клубами, а также сборной Советского Союза. «Деятельность той или иной команды, — говорил Лобановский, — определяется прежде всего оптимальной программой подготовки к тому или иному матчу, турниру. Можно проиграть состязание, потому что нет такой программы, которая гарантировала бы результат, но необходимо быть готовым к этому состязанию. Программа — не гарантия успеха, но даёт гораздо больше шансов на него, нежели стихийные действия».
В начале мая 77-го футболисты сборной Советского Союза попали на небольшое время в клубы. Тренеры киевлян поинтересовались в Управлении футбола Спорткомитета СССР, какие тренировки предложить сборникам, дабы они сохранили заданный им ритм. «Весёленькие», — ответили в Москве.
«Вот что, Валерий Васильевич, заканчивайте работать по-своему, работайте по нашим методическим указаниям», — заявили Лобановскому в начале 1977 года в Управлении футбола. Ответ получился достойным: «У вас есть указания, но нет методики».
На совещании, посвящённом неудачному выступлению сборной СССР в отборочном турнире к чемпионату мира 1978 года, Валентин Сыч объяснял тренировавшему тогда команду Никите Симоняну, что ему, во-первых, не хватает «въедливости», а во-вторых, что... «в коллективе должна быть стенгазета, должны проводиться комсомольские собрания и должны быть члены партии». «А теперь давайте с Лобановским разберёмся!» — прибавил заместитель председателя Спорткомитета СССР. Речь шла о том, чтобы разобраться с ним как с тренером клуба — основного поставщика футболистов в сборную.
Именно после того совещания Лобановский, вернувшись в Киев, в сердцах, но не без мечтательных ноток в голосе, бросил домашним: «Окна, что ли, у них там, в Управлении футбола, поразбивать?..»
После триумфа 75-го года последовал всеобщий призыв равняться на киевское «Динамо». Но как равняться, никто не знал.
А после 76-го тренеру киевлян предложили работать, «как все». Лобановский уже в 29 лет понял, что нельзя работать в футболе «дедовскими методами», а ему в 38 указывали, что надо — «дедовскими».
«Понимаете, — сказали тогда Лобановскому в Москве, — в вашей команде много игроков сборной, а мы хотим, чтобы они работали в том же режиме, что и остальные кандидаты из других клубов».
«Пожалуйста, — ответил Лобановский, — приезжайте в Гантиади, где мы сейчас находимся, и берите сборников под свою опеку. Мы возражать не станем».
Никакой реакции.
«Более того, — продолжил Лобановский, — можете даже на необходимый вам период составить программу работы для всей команды киевского “Динамо”, и мы её в заданный вами период — выполним».
Вновь без реакции.
«Но заставить нас прекратить работать по-нашему — это у вас, извините, не выйдет», — заключил Лобановский.
Фазиль Искандер говорил, что самое многочисленное сословие, которое не учёл никакой Маркс, — чернь. И принадлежность к нему не зависит от имущественного статуса, образования и места жительства: «Это те, кто сам ничего не умеет и другим мешает».
Утверждения о том, будто при Лобановском после его возвращения из Кувейта все в украинском футболе работали по одной — его, диктаторской, «схеме — и смотрели только на киевское «Динамо», безосновательны. Лобановский, в 70-е и 80-е годы резко выступавший против диктата, никогда никому ничего не диктовал. Да и не смог бы сделать этого при всём желании. Клубные тренеры, особенно с появлением в их рядах иностранцев, — специалисты вполне самостоятельные. Некоторые из них, игравшие в своё время в Киеве, вышли из «тренировочного костюма» Лобановского и практиковали его методику. Иной вопрос — как практиковали? Слепое копирование выглядело нелепым.
Лобановский всегда был против вмешательства в его методы работы. В советские времена в ходе сезона, особенно в подготовительной его части, одни проверяющие из Москвы — из Федерации футбола, из центрального совета общества «Динамо», из Спорткомитета СССР — сменяли других. Каждого инспектора встречали администраторы команды, устраивали в гостиницу, кормили, поили, предоставляли транспорт для посещения тренировок и матчей. Проверяющие — в Сочи, Гагре, Леселидзе, Гантиади, Ужгороде — не выпускали из рук методические указания и скрупулёзно сверяли количество упражнений, время, на них затраченное, общее тренировочное время с увиденным. Всё везде у них совпадало. Исключением было киевское «Динамо». Тренировки клуба не укладывались ни в какие заданные рамки. Вместо положенных 120 минут они могли длиться 70. Упражнения игрокам предлагались какие-то странные. Занятия состояли из непонятных серий с паузами между ними. В разъяснениях Лобановского звучал непривычный для футбола термин «аритмия». Спортивное и футбольное советское начальство не желало вникать в принципы работы киевского «Динамо» и не в состоянии было сделать это — зачем, когда есть возможность приказывать, в каком направлении надлежит следовать.
Из тренеров к поразившим воображение киевлянам обращались лишь Владимир Юрзинов, уже тогда слывший вдумчивым хоккейным специалистом, и Анатолий Евтушенко, регулярно добивавшийся успехов со сборной страны по гандболу. Они пытались с помощью Лобановского разобраться в сути применявшихся в Киеве методов тренировочного процесса и применить в своей епархии то, что можно было применить в их видах спорта.
Футбольные же тренеры — не обращались.
Одни — солидного уже возраста — исходили из привычного: «Яйца курицу не учат». Другие считали, что в киевском «Динамо» всё решал подбор игроков, а не какая-то там «программа», «модель». Третьим было попросту лень. Четвёртым просто не нравилось предложенное киевлянами — в частности, игра, которую называли «запрограммированной».
Лев Филатов обратил внимание на то, что Лобановский любит говорить о разработанной им и его единомышленниками тренировочной программе. «Он считает, — отмечал Филатов, — что работа по этой программе является решающим условием успеха в наши дни. Его не слишком понимают, а кто-то и не желает утруждать себя пониманием. Отчасти виноваты в этом сами авторы программы (О. Базилевич, А. Зеленцов, В. Лобановский), не умеющие изложить её достаточно популярно и злоупотребляющие усложнённой терминологией. Поэтому-то они, кроме самих себя, могут назвать всего лишь ещё трёх тренеров, разобравшихся в этой программе. Иначе говоря, метод, применяемый в киевском “Динамо”, пока не вышел за пределы клуба».
Базилевич, Зеленцов и Лобановский действительно не намеревались выступать в роли популяризаторов. Они, авторы программы, всемерно желали заинтересовать идеей тех, кто готов был вырваться из замкнутого круга прежних представлений о ведении тренировочной работы (методические указания ничего не смыслящего в тренировочном процессе начальства — обязательное следование указаниям — проверка выполнения указаний) и подняться до уровня нового. Не желающих «утруждать себя пониманием» оказалось, как это всегда бывает при возникновении чего-то нового, необычного, больше, чем тех, кто всё делал для того, чтобы понять.
И дело не в усложнённой терминологии (она ведь не для публики, не для болельщиков, а для тех, кто считает себя специалистами) — дело в косности, лени, в нескрываемом стремлении «поставить на место» бог весть что возомнивших о себе молодых тренеров, без году неделя, в отличие от нас, стариков, всё повидавших, работающих в футболе.
Главный редактор еженедельника «Футбол-хоккей» Лев Иванович Филатов напечатал в 1977 году в трёх номерах (№ 38—40) статью Базилевича, Зеленцова и Лобановского «Стратегия игры и программа тренировки». Известный советский тренер, руководивший в своё время сборной, Михаил Якушин, внимательно прочитав все три номера, воскликнул: «Ничего не понял! Что они хотели сказать?» Другой, не менее уважаемый специалист, Евгений Горянский, полемизируя с авторами в том же издании, занудно рассуждал, в частности, о невозможности определения длины пробегаемой дистанции за счёт увеличения количества сделанных во время бега шагов в единицу времени. «Количество шагов в единицу времени может быть увеличено, — писал Горянский, — но ведь длина шага может быть меньше, чем раньше...» В пылу полемики опытный тренер не обратил внимания на то, что речь велась о... беге на месте и никто не собирался определять длину шага.
Нежелание понимать — свидетельство дефицита тренеров, готовых опираться на точные знания, учиться каждодневно и каждодневно же вносить в футбол что-то новое, своё.
Старая, как мир, проблема: опуститься в своих объяснениях совершенно новых идей до уровня, на котором пребывало большинство коллег, — или же заставить всех тренеров, пожелавших детально ознакомиться с новшеством, засесть за виртуальную парту, подняться до понимания изложенного в прессе, а затем — добро пожаловать! — отправиться за дополнительными сведениями к никому не отказывавшим Лобановскому и Базилевичу и посмотреть, как новые подходы осуществляются на практике.
Известный отечественный специалист Гаджи Гаджиев, один из самых квалифицированных в сегодняшнем тренерском цехе, говорил, что поначалу мысли Базилевича, Зеленцова и Лобановского «облекались в такую сложную форму, что многие тренеры справедливо жаловались, что не понимают, о чём идёт речь», но это не помешало ему не только разобраться в разработках киевских новаторов, но и усвоить их, приняв не на веру, а осмысленно, и развивать в соответствии с условиями, в которых он в профессии оказывался. Гаджиев рассказывал, как на лекциях в Высшей школе тренеров говорили тогда, что статьи Базилевича, Зеленцова и Лобановского — полная ерунда, но на вопрос, в чём же эта ерунда заключается, не отвечали. Потому что не изучали, не читали, не знали, не понимали и вообще не интересовались. Лобановский как-то сказал Гаджиеву, встретив его в аэропорту: «Главное — не предавать направление».
В футбольном мирке Советского Союза над Лобановским и Базилевичем смеялись. Иногда в голос, иногда потихоньку. Называли, вкладывая в каждое определение сарказм, «аналитиками», «разработчиками», «лаборантами», «кибернетиками», «начётчиками» — за внедрение в футбол научной мысли, за моделирование тренировочного процесса, за обсчёт тактико-технических действий футболистов... «Мы привыкли, — говорил ещё Гёте, — что люди издеваются над тем, чего они не понимают». «Мы с пониманием относимся к вашему непониманию», — развивал фразу немецкого поэта Лобановский.
В XXI веке ни один из мало-мальски уважающих себя клубов не обходится без основательной научной лаборатории с мощным аналитическим центром. Руководитель аналитического штаба мюнхенской «Баварии» Михаэль Нимейер говорил в 2015 году (без ссылок на авторство, разумеется) то, что Лобановский и Базилевич пытались объяснить в Советском Союзе ещё в 1974-м: «Тактика футбола основана на двух вещах. Первое — это численное преимущество игроков на конкретном участке поля. Второе — это перемещение игроков по этому участку поля. Мы стараемся оценить, как лучше создать численное превосходство и как использовать особенности соперника в нашу пользу. Для достижения этих целей мы используем аналитику и IT-технологии». Над достижениями IT-технологий в футбольном деле в 2015 году никому в голову не пришло смеяться — в отличие от середины 70-х годов прошлого века, когда впервые в истории футбола к помощи науки обратились в киевском «Динамо».
«Хороший анализ, — говорит Нимейер, — требует точных данных ТТД (тактико-технических действий. — А. Г.) и полного видеоматериала. Этим занимается аналитический отдел клуба, взаимодействуя с тренером, который умеет делать точные выводы на основании этого материала. Но для того, чтобы система работала, нужны правильные игроки. Даже хорошая стратегия не поможет, если в тактической схеме используются не те футболисты. Любая аналитика теряет смысл, если у вас нет игроков, которых требует система».
В «Баварии» образца XXI века — и не только в этом ведущем в мировом футболе клубе — приоритетными, как и в киевском «Динамо» после появления там Лобановского и Базилевича, считают данные ТТД, видеозаписи тренировок и матчей и сбор данных, технологию обработки базы данных, которая структурирует и анализирует данные в реальном времени для тренера. Нимейер считает, что «всё идёт от тренера», который рулит процессом. «В “Баварии”, — говорит Нимейер, — у Пепа Гвардиолы была большая команда аналитиков, поскольку тренер хорошо знал о пользе анализа». Когда Гвардиола только начинал в Мюнхене, он бросил фразу: «Аналитический отдел — самый важный в клубе». То же самое Гвардиола говорил, работая в «Барселоне» и «Манчестер Сити».
Анатолий Зеленцов, для которого Лобановский ввёл в штатном расписании новую должность — «тренер по научной работе», говорил, что его «главными единомышленниками в конце 60-х оказались Валерий Лобановский и Олег Базилевич, которые двумя руками поддержали начинания и всеми силами способствовали внедрению в футбол научной мысли». Ещё возглавляя «Днепр», Лобановский «поднимал вопросы создания моделей и повышения интенсивности тренировочных занятий... Аналогов нашим наработкам в мире не существовало. Мы были первопроходцами».
Тогда, в середине 70-х, у Лобановского сложились тёплые, доверительные отношения с академиком Виктором Михайловичем Глушковым, директором Института кибернетики Академии наук УССР. Они могли беседовать часами, и Виктор Михайлович удивлялся познаниям Лобановского в вопросах, к футболу отношения не имевших, а Валерий Васильевич не верил, что Глушков прежде не интересовался футболом. «Мне понятно, — говорил Глушков, — почему наш спорт отброшен на 20—30 лет назад. Но трудно упрекать людей, которые не понимают, что такое моделирование. Это всё равно что упрекать слепого в том, что он не видит».
...Согласно распространённому мнению, киевское «Динамо» начало свой путь в розыгрыше Кубка кубков 1974/75 года с победы в финале Кубка СССР над «Зарей» 10 августа 1974 года. Это не так. В европейский турнир киевляне попали как финалисты Кубка страны 1973 года, когда в том самом злополучном для Александра Севидова матче проиграли «Арарату», который как чемпион Советского Союза получил право играть в Кубке европейских чемпионов.
За две с лишним недели до финальной встречи с «Зарей» динамовцы узнали, что жребий выбрал им первого соперника в Кубке кубков — болгарский клуб. Правда, какой, было неясно, поскольку финал Кубка Болгарии к тому времени ещё не состоялся. После финала выяснилось, что играть предстоит с ЦСКА «Септемврийско знаме».
28 сентября 1974 года, за несколько дней до ответного матча с очень крепкой на тот момент болгарской командой, динамовцы праздновали день рождения защитника Трошкина. Естественно, не без возлияний. Что-то там произошло, и ребята подрались. Да так, что об этой истории узнали Лобановский и Базилевич. «Мы, тренеры, — сказал тогда на собрании в Конча-Заспе Лобановский, — не можем брать на себя ответственность за результат, если вы так готовитесь к матчам, и снимаем с себя всю ответственность». В Софии 2 октября на поле вышла крепко сбитая команда, агрессивная и решительно настроенная. Болгар обыграли во второй раз с тем же счётом 1:0, что и дома, и вышли в следующий раунд Кубка кубков.
Понимание того, что можно не только побиться за Кубок кубков, но и выиграть его, пришло к команде после того, как 23 октября 1974 года во Франкфурте она обыграла в первом матче 1/8 финала «Айнтрахт» (3:2), дважды проигрывая по ходу встречи. Лобановский летал смотреть «Айнтрахт» во встрече с «Фортуной», победа (4:0) его впечатлила, и он сказал тогда, что «многое из того, что наша команда осваивает пока на макете, немцы без особых затруднений проделывают на поле, в игре».
Перед матчем немецкие футболисты, в том числе два свежеиспечённых чемпиона мира Бернд Хельценбайн и Юрген Грабовски, уверенно предсказывали себе крупную победу (Хельценбайн называл даже счёт 4:0). Победить не вышло. Теперь, для того чтобы пройти дальше, немцам необходимо было выигрывать в гостях с разницей в два мяча. Но уже к перерыву киевской встречи счёт был 2:0 в пользу «Динамо» (итог — 2:1). Этим матчем завершался более чем успешный сезон — первый, в котором с командой работали молодые тренеры Лобановский и Базилевич. «Девять лет назад, стартуя в еврокубках, “Динамо” пребывало в хорошей форме, — говорил Виктор Александрович Маслов после киевского матча с «Айнтрахтом», на котором он неожиданно для местных футбольных людей появился. — Все уже тогда ждали от нас громких побед. Но это особые турниры. Победы в них требуют зрелости. Мне кажется, сейчас эта зрелость пришла к киевлянам».
5 ноября 1974 года на послематчевой пресс-конференции Лобановский всё же снизил «градус эйфории» после двойной победы над немцами: «Да, максимальные задачи команды на сезон выполнены — победы в чемпионате, Кубке страны и выход в весеннюю часть Кубка кубков. Но по содержанию игры мы пока решили только программу-минимум. Игра “Динамо” ещё далека от совершенства. Мы знаем свои недостатки, и впереди нас ждёт большая работа».
Впереди динамовцев действительно ждали очень сильные противники. Дважды, дома и в гостях, победив в четвертьфинале турецкий «Бурсаспор», киевляне вышли в полуфинале на обладателя Кубка Голландии.
О голландском футболе в Советском Союзе знали к тому времени больше по названиям таких клубов, как «Аякс» — блистательный проповедник тотального футбола, и «Фейеноорд». В самой же Голландии серьёзную конкуренцию местным грандам вознамерился создать — и создал! — «футбольный департамент» всемирно известной фирмы «Филипс» — ПСВ из Эйндховена. В 1975, 1976 и 1978 годах — между прочим, время расцвета тотального футбола в Европе — ПСВ «Эйндховен» выигрывал чемпионаты Голландии.
Смотреть ПСВ в Голландию летал Базилевич. После того что он рассказал Лобановскому под видеопросмотр матча, Лобановский распорядился коллективный просмотр не устраивать — чтобы морально не травмировать команду. Игроки голландцев побаивались.
Да, в Киев ПСВ приехал на первый полуфинальный матч в роли лидера голландского чемпионата, с шестью игроками сборной страны и двумя шведскими сборниками в составе, с тремя выездными победами в турнире Кубка кубков в багаже. Но 9 апреля 1975 года на переполненном киевском стадионе-стотысячнике гости были биты со счётом 3:0. И даже после этого пиетет перед футболистами ПСВ у игроков не исчез.
Матч «Динамо» — ПСВ в Киеве произвёл сильное впечатление на европейских наблюдателей. Неделей раньше, 2 апреля, сборная СССР (она же на тот момент киевское «Динамо» с добавленным в динамовский состав за десять минут до конца встречи Фёдоровым из «Пахтакора») разгромила (3:0) турецкую команду в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы в столице Украины. А где же ещё было принимать сборную, почти на 100 процентов составленную из игроков киевского «Динамо», как не в тогдашней футбольной столице Советского Союза?
Лобановский рассказывал, что они с Базилевичем предложили своим игрокам «продолжить турецкий матч и с первых же минут прессинговать соперника по всему полю». Сил для этого, полагали тренеры, было достаточно. Но, обнаружив, что атлетичные голландцы к подобному развитию событий подготовились и в любой момент способны благодаря техническому мастерству и скоростным качествам вырваться из-под прессинга и провести опасные контратаки, Лобановский и Базилевич «отправили» на поле задание перестроиться, встречать соперника только на своей половине поля и, отобрав мяч, немедленно устремляться на скорости к воротам ПСВ. Два гола, забитые ещё в первом тайме, стали хорошим заделом для того, чтобы после перерыва играть, как принято говорить в футболе, «по счёту».
После третьего киевского гола голландцы в течение примерно сорока минут полностью диктовали свои условия игры. Динамовцы, справедливо посчитавшие результат вполне для себя достаточным перед ответной встречей, условия эти приняли. Однако не до конца. Они не позволили ПСВ забить хотя бы один гол, оставивший бы им надежду на выход в финал. Хотя, стоит сказать, гости были близки к тому, чтобы счёт «размочить».
По отдаче коллективной и по самоотдаче каждого футболиста киевляне в игре с ПСВ превзошли самих себя. Лобановский вспоминал об этом матче на примере Виктора Колотова:
«Более молчаливого человека я в жизни не встречал. Сам немногословен, но таких не видел. Если он говорил, то только по делу — ни одного лишнего слова. В глаза мог сказать любому всё, что о нём думает. Бил редкими словами по самолюбию, не щадя при этом и себя. Слышать неприятно, а что поделаешь — всё верно и сказано человеком, к которому претензий почти никогда ни у кого не возникало и возникнуть не могло — ни в быту, ни на тренировках, ни в игре. О работоспособности Колотова ходили легенды, шутники утверждали, что, если нужно, он и третий тайм отыграет, и четвёртый, причём с той же неутомимостью, что и первые два. Но я подметил одну характерную деталь. Если обычно футболисты стремятся хоть какие-то крупицы сил сберечь, то Колотов выкладывался за полтора часа весь, без остатка. Он знал, что ему работать 90 минут, и работал на полную катушку, доводя себя до состояния невменяемости. После игры с ПСВ — матча высокого уровня и большого напряжения, когда у футболистов не осталось никаких сил, когда мы с Базилевичем не могли стоять в раздевалке — ноги не держали, а сидели в креслах, из душевой вышел Колотов, оглядел всех внимательно и спросил в тишине: “Так они нам забили гол или нет?” Раздался мощный взрыв хохота. Во внутреннем дворике Центрального стадиона, как нам потом рассказывали, он был принят за проявление неуёмного восторга. Кто-то из ребят, по-моему, Володя Мунтян, воскликнул: “Ну, ты даёшь, Витёк! Успокойся, осталось так, как было, — 3:0, если, конечно, судья им голик в протоколе не приписал”. — “Понятно”, — невозмутимо сказал Колотов и снова отправился в душевую».
Ещё в Киеве Лобановский попросил Михаила Ошемкова раздобыть пластинку с записью клубного гимна «Эйндховена». «Зачем?» — удивился тот. «Понадобится», — лаконично ответил Лобановский. Ошемков созвонился с представителями ПСВ, объяснил суть просьбы и получил заверения в том, Что не возникнет никаких проблем — сразу после появления киевского «Динамо» в Эйндховене пластинка окажется в его руках. «Попроси, — сказал Ошемкову Лобановский, — чтобы поставили эту пластинку во время нашей предматчевой тренировки». Они с Базилевичем посчитали, что не будет лишним познакомить команду хотя бы с частичкой той атмосферы, в которую им придётся окунуться на матче.
Вряд ли кто-то в ПСВ всерьёз надеялся на то, что команда в состоянии забить три-четыре безответных гола в ворота набравшей ход «киевской машины». Расчёт на единственный шанс — быстрый гол, который мог бы (в теории, конечно) деморализовать гостей, так расчётом и остался. Единственная радость «Эйндховена» — первое поражение «Динамо» в турнире (1:2), ничуть, правда, проигравших не огорчившее: они вышли в финал Кубка кубков. Лобановского и Базилевича огорчило лишь случившееся в концовке встречи удаление (вторая жёлтая карточка) полузащитника Веремеева — одного из ключевых игроков середины поля, вынужденного из-за этого пропустить финал.
7 мая 1975 года, за неделю до финала в Базеле с венгерским клубом «Ференцварош», киевляне встречались в Ереване с «Араратом» в рамках чемпионата страны. И в голову тогда никому не приходило просить о переносе матча, мотивируя просьбу необходимостью получше подготовиться к важной еврокубковой встрече.
Футболисты «Арарата» в силу каких-то одним только им ведомых причин принялись бить динамовцев нещадно. «Наша раздевалка после игры, — рассказывает Олег Базилевич, — напоминала полевой госпиталь, и наши замечательные врачи творили настоящие чудеса. Повреждения были абсолютно у всех игроков. Блохину, например, наложили несколько швов». Каким-то предметом, брошенным с трибуны, угодили в голову Лобановскому — в тот самый момент, когда он, привычно раскачиваясь, оказался не защищённым пластиковой крышей, нависавшей над скамейкой запасных. «Говорил же тебе, — шутил после игры Базилевич, — раскачивайся в Ереване не вперед-назад, а из стороны в сторону». По пути в раздевалку между соперниками одна за другой возникали стычки. До массовой драки, по счастью, дело не дошло. В аэропорт динамовский автобус сопровождали милицейские наряды, перед которыми была поставлена задача обезопасить гостей от болельщиков, не скрывавших намерений «разобраться» с киевлянами.
Выходя в Швейцарии из самолёта, некоторые футболисты прихрамывали, многие поддерживали друг друга. Почти сутки отдыха в отеле «Интернасьональ», восстановительные мероприятия, непрекращающаяся работа врачей — и всё равно на первую тренировку Лобановский и Базилевич смогли «поднять» только девятерых футболистов.
Над остальными продолжали колдовать Владимир Малюта и Виктор Берковский. Блохину они запретили даже бегать трусцой, Мунтян и Онищенко готовились в щадящем режиме. Их выступление в финале было под большим вопросом. Но вся тройка, как известно, сыграла, и Онищенко (два гола) с Блохиным сделали в финале счёт 3:0. В перерыве матча Лобановский поинтересовался у Блохина, сможет ли тот продолжать игру. Не настаивал на замене, вспоминает Блохин, а просто спрашивал, может, не стоит рисковать больной ногой. «Конечно, — говорит Блохин, — я ничуть не сомневался, что ребята и сами доведут дело до победы, только пусть уж лучше со мной. Второй такой игры в жизни может не быть. Не мог же я тогда заглянуть на одиннадцать лет вперёд и узнать, что судьба подарит мне ещё один точно такой же финал». Блохин на второй тайм вышел, забил третий динамовский гол «Ференцварошу», а спустя одиннадцать лет, уже в совершенно новом окружении партнёров, забил в победном финале гол и мадридскому «Атлетико».
Не думаю, что есть основания грешить на тренировавшего тогда «Арарат» Виктора Александровича Маслова, будто бы настроившего своих футболистов на игру так, чтобы они живыми динамовцев с поля не выпустили: тем самым, дескать, Маслов мстил киевскому «Динамо» за то, что клуб несправедливо обошёлся с ним в 1970 году. Это не так. Маслова никак нельзя поставить в один ряд с мелкими пакостниками. Леонид Буряк называет такие утверждения «чушью» и «сплетнями» и вообще считает, что «повреждения были случайными, ничего глобального не случилось, все сыграли в финале». Сыграли, конечно, хотя Блохин, Онищенко и Мунтян хорошо запомнили, в каком состоянии они были после «ереванского массажа».
Гораздо ближе, на мой взгляд, к объяснению происходившего в Ереване версия, связанная с возможной просьбой, с которой футболисты «Арарата» обратились к коллегам из «Динамо»: дескать, и нам будет хорошо, если мы получим два очка, и вы без проблем подготовитесь к финалу. «Арарат» играл дома, и ему необходимо было выбираться из середины таблицы: перед матчем с киевлянами команда проиграла в Москве «Локомотиву» 1:4. В просьбе, очевидно, было отказано. И — понеслось. Причём арбитр Владимир Руднев, один из лучших в стране, не обращал на безобразные поступки ереванских футболистов никакого внимания.
Полтора часа финального матча в Базеле Владимир Веремеев (напомню, дисквалифицированный после полуфинала) провёл за воротами «Ференцвароша» с пометкой «foto» на одежде и фотоаппаратом в руках. Перед Базелем Лобановский настаивал, чтобы в состав делегации, отправлявшейся на финал, включили киевского фотохудожника «номер один» Иосифа Шаинского (сын которого Ефим пошёл по стопам отца и достиг в творчестве весьма высокого уровня). «Отец, — рассказывает Ефим Шаинский, — говорил, что согласен даже ночевать в самолёте, лишь бы сфотографировать исторический матч. Увы, в те годы одного лишь желания главного тренера, пусть даже Лобановского, в таких делах было недостаточно».
И Иосиф Шаинский одолжил фотокамеру Веремееву. Что-то Володя снимать, конечно, пытался, но прежде всего его захватила сама игра, и он не мог не «сопровождать» действия своих партнёров. Напереживался, как он сам рассказывал, больше, чем если бы играл.
Накануне финала в Базеле обе команды, согласно представленному УЕФА расписанию, тренировались на главной арене. Когда занятие уже заканчивалось, подкатил автобус с «Ференцварошем». Венгерские футболисты сразу в раздевалку не отправились, а выстроились вдоль ограды между трибуной и полем и стали наблюдать за соперниками. Лобановский показал психологический этюд. Он собрал игроков в центральном круге и сказал, чтобы по его сигналу они на максимально высокой скорости разбежались в разные стороны, а затем — опять же на скорости — вернулись обратно. «Когда уходили с поля, — вспоминает Мунтян, — посмотрели на венгров. Они стояли зелёные. Было заметно, что испугались». Футболисты «Ференцвароша» действительно смотрели на киевлян как на инопланетян. Динамовцы сразу почувствовали: их боятся.
Но и при счёте 2:0, в перерыве, Лобановский предостерегал: «Игра не закончена». (Оба гола были на счету Онищенко. Второй мяч в ворота «Ференцвароша» он забил на 39-й минуте. Он получил мяч на фланге, и Мунтян, в полном соответствии с игровыми принципами, сделал забегание (почему-то потом это действие команды на поле стали называть «спартаковским», хотя первыми в европейском футболе, после «Аякса» и сборной Голландии начала 70-х годов, этот приём стало активно применять киевское «Динамо»), и Онищенко обязан был отпасовать мяч Мунтяну. Вместо этого форвард стал смещаться в центр. «Что же он делает?!» — возмущённо закричал на тренерской скамейке Базилевич. Онищенко тем временем точно пробил по воротам — гол, и Базилевич возглас возмущения без паузы завершил иной интонацией: «Молодец!») И даже когда Блохин забил третий мяч, вспоминает Онищенко, не было уверенности, что это победа. Лишь минут за десять до конца стало ясно, что отыграться у венгров не получится.
Спустя десятилетия после победного для Клёва финала их соперника называют «слабым». Но «Ференцварош» на пути к финалу прошёл «Ливерпуль», а затем «Црвену Звезду», обыгравшую, в свою очередь, мадридский «Реал», и вообще до финала никому не проигрывал. «Работали» против киевских футболистов и политические моменты.
«Запомнились попытки мадьяр давить на нас морально, — вспоминает Стефан Решко. — Они же нас воспринимали как совдепию, как поработителей. 56-й год остался в памяти каждого венгра навсегда. Поэтому много чего мы наслушались во время матча от игроков».
Киевляне привычно совершали с кубком круг почёта. Но получилось полкруга. К тем воротам, за которыми устроились болельщики венгерского клуба, динамовцы приближаться не рискнули. Как только они сделали попытку приблизиться, в них моментально полетели банки, фрукты, зажигалки, тяжёлые монеты, — эти места занимали в основном венгры, осевшие в Западной Европе после 1956 года.
Команда двигалась вдоль трибун с кубком, а возле опустевшего столика, на котором находился серебряный приз, стояли и наблюдали за своими футболистами Лобановский и Базилевич. Работавший на матче журналист Геннадий Радчук рассказывал, что когда брал экспресс-интервью у них, впервые увидел обоих тренеров улыбающимися, наконец-то переставшими хмуриться. «Сегодня, — писал Радчук в отчёте о финале в «Советском спорте» под заголовком «Победа, делённая на всех», — можно вспомнить, что та лёгкость, с которой на пути к финалу динамовцы устраняли своих соперников, порождала представление о некоторой слабости противников, да и финал теперь кажется лёгким и простым. Эти лёгкость и простота имеют глубокие корни в мастерстве команды, гибкости, волевом единстве и игровой монолитности ансамбля киевлян, а не в тех или иных минусах соперника. Это ведь большое умение так построить и провести игру, чтобы выявить слабости противника и не только подчеркнуть их так, чтобы они бросились всем в глаза, а и использовать в своих интересах. В этом, прежде всего, большая заслуга В. Лобановского и О. Базилевича».



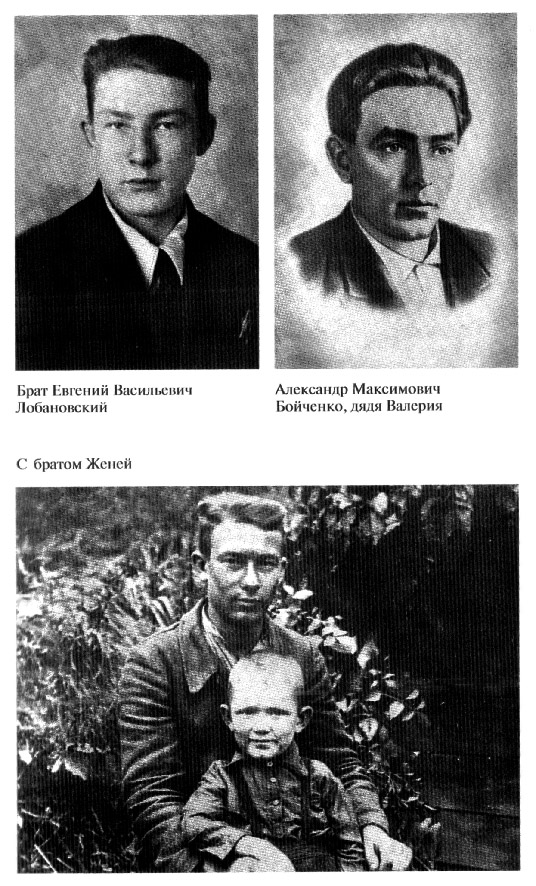












После финала Кубок кубков наполнили советским шампанским — крымским, мускатным, дефицитным, — которое заблаговременно, ещё в Киеве, закупил Александр Петрашевский: два ящика мускатного, закупил на свой страх и риск — не принято в футболе заранее заготавливать праздничные напитки. Перед отъездом он, правда, спросил Лобановского: «Брать?» — «Бери, — ответил Лобановский, — но только всем, кто спросит, ни в коем случае не говори, для чего ты это везёшь. Говори, что для подарков». Кубок вместил в себя содержимое почти восьми бутылок благородного напитка.
«Спортивную делегацию киевского “Динамо” в Базеле, — вспоминает Валерий Мирский, — возглавлял Бака. Одно из его правил — не пить спиртное на работе, а тем более с подчинёнными. Но тут что-то дрогнуло в этом железном организме. После отбоя, когда футболисты уже спали сном праведников, Михаил Макарович повёл тренеров в диковинный для советского человека гостиничный бассейн, совмещённый с баром, и на всю отпущенную ему советской властью валюту купил сумасшедший напиток по имени “виски”. Хватило на две бутылки. Где взяли деньги для остальных, история умалчивает».
Из Швейцарии команда прилетела прямо в Борисполь. Чартерных рейсов тогда не было. Посадить летевший в Москву самолёт в Киеве распорядились после согласования с партийным руководством Украины. Мотивировали интересами сборной Советского Союза, которой спустя три дня после Базеля предстояло играть в Киеве важный отборочный матч чемпионата Европы с ирландцами (с 1 января 1975 года Лобановский с Базилевичем были назначены тренерами ещё и сборной). Осенью 74-го команда, которую тогда тренировал Константин Бесков, проиграла в Дублине 0:3. Турнирная ситуация для СССР оказалась хуже некуда. Гонять команду через Москву было нецелесообразно — потеря времени. Тренеры к тому же обещали отпустить футболистов на несколько часов по домам. Сделать это можно было только в случае посадки в Киеве. Её и добились благодаря Щербицкому.
Когда российский ЦСКА в 2005 году выиграл Кубок УЕФА, в Москве десятки тысяч людей вышли ночью на улицы и площади, а потом отправились во Внуково встречать триумфаторов. Футболистов, тренеров, руководителей клуба принимали министр обороны страны Сергей Иванов и президент России Владимир Путин — однокашники по ленинградскому университету и разведшколе. Ценным подаркам, премиям, наградам не было конца.
Тридцатью годами раньше чествование было несопоставимо скромнее. В Борисполе первым делегировали на трап самолёта капитана команды Виктора Колотова, поднявшего над головой кубок. В правительственном зале организовали небольшой фуршет — вторые лица из ЦК, Совмина, МВД и местного КГБ сказали пафосные тосты. На премиальные — по 705 долларов (иные российские и украинские «мастера» в новейшие времена за час пребывания в футболе столько получают) — игроки и тренеры, почти все, купили в Швейцарии на оптовом складе стереосистемы стального цвета — они потом несколько лет, напоминая о славной победе, стояли в красных углах квартир футболистов. Видеомагнитофоны не «потянули»: они стоили тогда около двух тысяч долларов.
Коробки развозили по домам встречавшие команду родственники и друзья. Футболисты же погрузились в автобус и отправились в Конча-Заспу готовиться, теперь уже в обличье сборной СССР, к отборочному матчу с Ирландией. На подготовку к реваншу были отведены всего два дня — 16 и 17 мая. Встречать команду в Борисполь Ада приехала с одиннадцатилетней Светой. «Валера, — сказала она мужу, — мы ждём тебя дома к обеду». — «Какой обед? — удивился Лобановский. — Мы заезжаем на базу. У нас сегодня восстановительная тренировка. Нам через два дня со сборной Ирландии играть».
На базу отправились с кубком. Динамовская «бабушка» Ольга Трофимовна Подуран выстелила для победителей ковровую дорожку. Столы уже были накрыты. Отмечали без фанатизма. «Теперь, — Лобановский говорил первым, — я могу продемонстрировать ответ на вопрос, который мне задавал Володя Онищенко: “Для чего мы столько трудились и проливали столько бочек пота?”». И поднял Кубок кубков.
На динамовскую базу поздравить футболистов приехали Яков Погребняк и Владимир Семичастный. Ждали Щербицкого, но он не прибыл. Лобановский остудил пыл игроков, полагавших, что первый секретарь компартии их непременно навестит, сказал, что в Москве и без того считают внимание к футболу в Украине чрезмерным.
Впрочем, осторожный Михаил Бака, представитель старой школы, не видел «происков Москвы», ставившей, как считалось в Киеве, палки в колёса киевскому «Динамо». Он утверждал, что высшее московское руководство «гордилось успехами украинских спортсменов» и никакого «чувства зависти» со стороны Москвы не было.
Накануне базельского финала журналисты киевской «Спортивной газеты» готовили два варианта подачи материалов об историческом для «Динамо» матче. Первый — короткий — на случай поражения. Второй — победный — на полторы полосы. Не спали всю ночь. Газету утром следующего после финала дня расхватывали как горячие пирожки. Вышедший номер со своими автографами журналисты «Спортивной газеты» подарили Лобановскому. Он сохранил памятный экземпляр.
Московская пресса отнеслась к удивительному для советского футбола событию гораздо сдержаннее: в «Советском спорте» и «Футболе» были напечатаны отчёты, весьма, стоит заметить, квалифицированные, специального корреспондента этих изданий Геннадия Радчука, одного из лучших футбольных журналистов страны. В остальных газетах — тассовские сообщения, подготовленные на четвёртом этаже старого здания ТАСС на Тверском бульваре. Спустя день-другой, впрочем, можно было обнаружить публикации откликов на победу представителей, как было принято в то время говорить, различных категорий советских граждан. О подготовке таких откликов в газеты поступило распоряжение из отдела пропаганды ЦК КПСС.
На матч против ирландцев сборная вышла полностью в динамовском составе («разбавленном» за шесть минут до конца Фёдоровым из ташкентского «Пахтакора»), Была одержана победа — 2:1. Счёт не по игре: советская команда была на голову сильнее. Лев Филатов, подводя предварительные итоги по горячим — после матчей в Базеле и Киеве — следам, писал в еженедельнике «Футбол-хоккей»: «В этих итогах заложен для всех нас немалый и оптимистический смысл. Ну хотя бы то, что развеяны старинные россказни о непреодолимости весенней несостоятельности в нашем футболе, создан пример продуманного, теоретически обоснованного подхода к решению тренировочных задач, да и ко всем другим сторонам многогранного футбольного дела, среди которых нет второстепенных.
Команда киевского “Динамо”, которой была доверена и роль сборной страны, выполнила всё, чего от неё ждали.
Было бы вполне достаточно, если бы она просто выиграла все те матчи, которые она выиграла. А она ещё выиграла их в хорошем стиле. И это самая яркая и самая приятная примета нынешней футбольной весны».
После матча с ирландцами европейским триумфаторам выдали по 940 рублей и часы стоимостью 180 рублей — от министра внутренних дел. С часами вышел казус. Бухгалтерия министерства не имела права пропустить по кассе больше 150 рублей на человека, и всем победителям Кубка кубков пришлось сбрасываться по 30 рублей — себе же на подарок. Ну а когда команда вышла с предложением, поддержанным Лобановским и Базилевичем (Лобановский потом, собственно, и контролировал реализацию этого предложения), чтобы всем победителям Кубка кубков предоставили возможность приобрести за свои деньги новые автомашины и об этом сообщили Погребняку, то через месяц были составлены два списка по шесть футболистов в каждом и талоны на покупку автомобилей начали поступать.
Спустя несколько дней после возвращения из Базеля победителям в торжественной обстановке вручили грамоты ЦК компартии Украины, Верховного совета и Совета министров республики. А ещё Лобановского и Базилевича пригласили в кабинет секретаря ЦК КПУ по идеологии Валентина Маланчука, который, «заметно волнуясь», преподнёс тренерам команды подарочные издания книги Николая Островского «Как закалялась сталь».
А как отреагировали советские футбольные начальники на путь киевского «Динамо» к финалу Кубка обладателей кубков, на победу над «Ференцварошем» и успешное выступление сборной в отборочном турнире к чемпионату Европы?
Очень просто. В бумагах Лобановского обнаружились две отпечатанные в типографии Воениздата «Благодарности» в формате А-5. Под втиснутым в круг профильным изображением Ленина — текст. Первая «благодарность», подписанная начальником Управления футбола Спорткомитета СССР Анатолием Ерёминым и профоргом Управления Алексеем Парамоновым: «За хорошие показатели в социалистическом соревновании среди сотрудников Управления футбола в I квартале 1975 года». Вторая, за подписями тех же людей, выдана «старшему тренеру сборной команды СССР по футболу — победителю в социалистическом соревновании II-го квартала 1975 г. среди структурных подразделений Управления футбола Спорткомитета СССР».
О Суперкубке тогда не думали. В планы он не входил, в календаре УЕФА такого соревнования ещё не было, проводились встречи, которые европейские футбольные власти именовали неофициальными. Телеграмма из УЕФА за подписью генерального секретаря этой организации Ганса Бангертера в киевский клуб поступила в начале августа 75-го. В ней говорилось:
«Уважаемые господа! Поздравляем вас и вашу команду по случаю успеха в финале Кубка обладателей Кубков европейских стран, который состоялся 14 мая 1975 года в Базеле.
Этот матч, безусловно, явился отличной демонстрацией спортивного духа, честной игры и привлекательного футбола.
Вам, вероятно, известно, что как победителям Кубка обладателей кубков европейских стран вам предоставляется право сыграть в так называемом “суперсоревновании” против обладателя Кубка европейских чемпионов, футбольного клуба “Байерн” Мюнхен. При этом мы направляем вам экземпляр Положения о проведении матчей. Будем очень признательны, если вы в кратчайшие сроки сообщите, заинтересованы ли вы в проведении этих игр.
Заранее благодарим вас за внимание к этому вопросу».
В предварительных переговорах, которые с УЕФА провёл Михаил Ошемков, выяснилось, что матчи предполагалось провести в сентябре — октябре. «Бавария» (в телеграмме — привычное для европейцев написание: «Байерн») тогда пребывала в европейских авторитетах, как и весь немецкий футбол: сборная выиграла в 72-м чемпионат Европы и в 74-м чемпионат мира, мюнхенский клуб на мировом первенстве представляли пять футболистов: Зепп Майер, Георг Шварценбек, Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер, Герд Мюллер. Первая встреча — в Мюнхене на «Олимпиа-штадионе»: «Бавария» не сомневалась в общем успехе, ей было всё равно, где начинать; на первый домашний матч планировала собрать полные трибуны (сделать это, к слову, не удалось: стадион был заполнен наполовину).
На совещании в узком кругу руководящего состава «Динамо», проходившем 12 августа 1975 года в 10 часов утра в знаменитой комнате-каптёрке без окон под трибунами динамовского стадиона, Лобановский, повертев в руках телеграмму с подколотым к ней переводом, сказал: «Ну что же, сыграем» — и дал указание всем службам готовиться к матчам за Суперкубок.
Вечером накануне он детально обсудил ситуацию с Базилевичем, и они пришли к выводу: у «Динамо» есть шансы подтвердить уже завоёванную европейскую репутацию. Лобановского не смущали ни оставшиеся матчи чемпионата СССР, ни игры сборной в отборочном турнире к чемпионату Европы (для Суперкубка ведь необходимо было уплотнять календарь) — он верил в возможности команды, пребывавшей на хорошем ходу и ход не сбавлявшей, лишь корректируя иногда — в зависимости от турнирных событий — ритм при прохождении очередных соперников. Козырями Лобановского, помимо веры в уровень своей команды, был некоторый спад «Баварии», закономерно последовавший после ярких побед сборной на чемпионате мира-74 и клуба в Кубке чемпионов-75, и настойчивое стремление «Баварии» сыграть первый матч дома. Лобановский всегда считал, что в сшибке двух примерно равных соперников фактор ответного матча на своём поле имеет огромное стратегическое значение, даёт не только психологическое преимущество. Козыри эти Лобановский и Базилевич обсуждали лишь в разговорах друг с другом, за пределы постоянных взаимных дискуссий не выносили, просчитав возможность дестабилизирующего воздействия козырей, не самых, к слову, очевидных, на команду.
Для себя всё уже решив, Лобановский и Базилевич на ближайшей тренировке собрали футболистов, рассказали о телеграмме, сообщили, что матчи за Суперкубок — неофициальные, что можно было соглашаться на них, а можно было и отказаться, и поинтересовались мнением игроков. Поверив в себя и в тренеров по ходу второго подряд успешного сезона, футболисты согласились: «Почему бы и не сыграть?»
В Москву отправили телеграмму с обоснованием своего согласия участвовать в матчах за Суперкубок. Окончательное решение — разумеется, неофициальное — в любом случае должны были принимать в ЦК КПСС, без вмешательства которого не обходилось ни одно событие, имевшее какую-либо степень значимости. В ЦК, на уровень сектора спорта отдела агитации и пропаганды, для «защиты согласия» вызвали Лобановского. Гарантий победы над немецким клубом не требовали (всё-таки не сталинские времена), но и скрывать заинтересованность в успешном результате в год тридцатилетия победы над Германией не стали. Убедить деятелей из ЦК согласиться на проведение матчей помог руководитель Спорткомитета СССР Сергей Павлов, которого, в свою очередь, убедил Лобановский.
В Мюнхен пошло письмо с просьбой выслать кассеты с записью матчей «Баварии» в чемпионате бундеслиги и Кубке чемпионов. «Бавария» в просьбе не отказала, оперативно отправила в Киев пакет с кассетами и подробное досье на каждого футболиста: «Пусть изучают».
Изучали игру «Баварии» тщательно, по полочкам разложив атакующие и оборонительные действия, разработанные Деттмаром Крамером. За несколько дней до первого матча, назначенного на 9 сентября, Лобановский отправился в Гельзенкирхен на игру «Баварии» с «Шальке-04» — понаблюдать за соперником с трибуны. Увиденное полностью его удовлетворило. Оставшиеся до матча два дня он провёл в Мюнхене, лишь изредка покидая номер в отеле — утром перед завтраком совершить неизменную пробежку по холмам возле олимпийского стадиона, днём — пообедать, вечером — поужинать и прогуляться перед сном. Остальное время Лобановский занимался разработкой стратегии на матч, плана на игру и задач для каждого футболиста.
Команду, прилетевшую московским рейсом «Аэрофлота», он встречал во Франкфурте. Когда Валерию Васильевичу доложили, что травмирована большая группа динамовцев, он с присущим ему серьёзным выражением лица сказал: «Зачем мы тогда сюда прилетели? Может быть, сразу обратно?» И когда представители «Баварии» на первой после прилёта «Динамо» тренировке увидели всего восемь занимавшихся футболистов, то были сильно удивлены.
Немцы, надо сказать, были точны во всём — в предоставлении Лобановскому представительского автомобиля для поездки из Мюнхена во Франкфурт, в подаче комфортабельного автобуса, в выделении мобильного сопровождающего, мгновенно расправлявшегося с любыми возникавшими шероховатостями. Во Франкфурте Лобановский присоединился к команде и вместе с ней автобусом отправился в Мюнхен, рассказывая по пути Базилевичу об увиденном. В автобусе же было решено: Мюллера — уникального супербомбардира, готового забить в любом матче какому угодно сопернику, — необходимо любыми средствами «разменять», и фигурой для «размена» должен стать Стефан Решко.
Беседе с ним перед матчем в Мюнхене Лобановский уделил особое внимание. Коэффициент надёжности игры Решко привлекал Валерия Васильевича. Он отряжал этого защитника на персональную опеку забивных нападающих из команд соперников. Решко полностью выключил из игры болгарина Жекова, обладателя на тот момент «Золотой бутсы» лучшего бомбардира континента, Эдстрема из ПСВ, Сабо из «Ференцвароша». Теперь настала очередь несравненного Герда Мюллера — лучшего в то время форварда мира.
«У Мюллера, — говорил Стефану Лобановский, досконально изучивший игру немецкого нападающего, — потрясающее чувство гола. Забить он может любой частью тела. Сидя, стоя, лёжа. Мяч не мусолит. Либо обыгрывается, либо сразу бьёт. Одно-два касания, как правило. Стань его тенью. Повсюду следуй за ним. Полностью сконцентрируйся, повторяй все его движения: он — на скамейку, и ты — на скамейку! Даже если он вдруг вздумает пойти в раздевалку. И ты — туда же. Можешь ему и спинку потереть! Нас это устраивает... Ни в какие розыгрыши не вступай — тебя это не должно интересовать: всё внимание — на Мюллере, повторяю: ты — его тень! Возле штрафной он особенно опасен: бьёт из любого положения — в подкате, “из-за уха” — очень хитрый и коварный!.. Не забьёт Мюллер — никто больше не забьёт: вся игра в атаке построена в расчёте на него».
На предматчевой установке Лобановский попросил футболистов исключить, по возможности, Решко из розыгрыша мяча, ни в коем случае не отвлекать его от Мюллера — не мешать концентрации на «спецзадании».
Почти все фланговые атаки «Баварии», например, слева, от Румменигге, следовали на Мюллера. Даже Беккенбауэр во время своих подключений старался сыграть на Мюллера. Решко вступал с ним в борьбу в момент приёма мяча, а когда удавалось, действовал на опережение. После матча Мюллер пожал Решко руку и сказал: «Сегодня ты был сильнее меня!»
Олег Блохин, 23-летний тогда кандидат на звание лучшего футболиста Европы, возбуждённый игрой и потрясающим мячом, который телеканалы всех европейских стран «гоняли» по экранам с интервалом в полчаса, попросил Ошемкова поменять его майку на майку Беккенбауэра. В те времена не было принято меняться футболками, но Ошемков отправился в раздевалку «Баварии»: «В тот момент, когда я, постучавшись, вошёл, моё смущение можно было сравнить разве что с удивлением баварцев. Беккенбауэр как раз обсуждал что-то с тренером Деттмаром Крамером и менеджером Робертом Шваном. Разговор прервался, все трое недоумённо уставились на меня. Протягиваю тяжёлую, наверное, килограмма под два, пропитанную потом футболку винницкого производства. Вот, говорю, Блохин желает обменяться с вашим капитаном. Франц без лишних слов стянул свою адидасовскую “пятёрку”, и я поспешил обрадовать Олега».
Травмированный Мунтян, в Мюнхене не игравший, вспоминает первую свою послематчевую реакцию: «Повезло! Соскочили!» Спустя многие годы он в компании с Колотовым и Трошкиным смотрел видеозапись мюнхенской встречи и мнение своё изменил. «Я увидел, — вспоминает он, — что мы таким составом сыграли очень прилично. И не так уж сильно “возили” нас, как показалось по горячим следам».
В Советском Союзе не верили в возможности «Динамо» и по телевидению показывать мюнхенский матч не стали. О феноменальном результате в Мюнхене зрители узнали только из позднего выпуска новостей, из лаконичного сообщения диктора: «В первой игре за Суперкубок киевское “Динамо” со счётом 1:0 победило мюнхенскую “Баварию”. На 67-й минуте гол забил Олег Блохин».
Тридцать лет спустя, просмотрев видеозапись матча, Олег Блохин вспомнил, что, «оказывается, в том матче у нас практически никого не было на замене. На лавочке сидели травмированные Самохин, Мунтян и Онищенко да массажист, который, сами понимаете, не мог выйти на поле». Вспомнил он, как «Вите Колотову рассекли колено, но он доиграл матч»; вспомнил и состояние перед той игрой: «Когда мы в 75-м слышали фамилии Беккенбауэра, Мюллера, Майера, Шварценбека, когда мы понимали, что чемпионы мира будут играть против нас на переполненном стадионе в Мюнхене, то, конечно, коленки тряслись. Как сейчас помню, я шнурки не мог завязать на бутсах! А ведь к тому времени мы уже немало матчей в Европе провели и Кубок кубков выиграли».
Блохин, превосходно сыгравший за киевское «Динамо» и сборную СССР во всех ключевых матчах в 1975 году, ошеломивший европейскую публику прекрасными голами в ворота «Баварии», получил «Золотой мяч» лучшего футболиста Европы. «Да вся та команда была гениальной, — говорил он спустя десятилетия. — И если “Золотой мяч” Блохину дали, это не значит, что другие были уровнем ниже. В составе образца 75-го года претендовать на этот приз могли человек пять-шесть — так просто сложилось... Только по стечению обстоятельств в коллективной игре выделялся я». Раймон Копа, знаменитый французский футболист, оценивая присуждение «Золотого мяча» Блохину, попросил обратить внимание на очень важное обстоятельство: «Триумф Блохина — это триумф киевской команды. На её примере можно видеть, что советские игроки придерживаются наступательной тактики и, как рыба в воде, чувствуют себя в рамках коллективного футбола».
Когда после победы «Динамо» в Суперкубке на секретариате ЦК компартии Украины обсуждали вопросы экономики и ораторы жаловались Владимиру Щербицкому на обстоятельства и трудности, украинский руководитель призвал их брать пример с киевского «Динамо». Лобановский рассказывал мне в конце 90-х, что именно тогда он понял, что хорошо делать дело можно при любой системе. «Тогда, — говорил Лобановский, — руководители призывали: “Надо работать”. Сейчас я говорю: “Надо работать”».
На континенте блистала команда, тренировавшаяся и жившая на старенькой базе в Конча-Заспе в спартанских условиях. Душевых кабин и туалетов в комнатах у игроков не было — всё общего пользования на двух этажах. Форму футболисты стирали сами. На окнах висели марлевые сеточки, ночью от ветра они смещались и от комаров не защищали. «Иногда до утра, — рассказывает Блохин, — не спали: гоняли этих кровососов, закрыв все окна».
На киевский матч за Суперкубок с «Баварией» пытались попасть сотни тысяч людей со всего Советского Союза (число только зафиксированных заявок от граждан и организаций со всей страны превысило 650 тысяч). В их числе были и будущий президент ФК «Динамо» (Киев), а тогда студент Одесского пищевого института Игорь Суркис с дедом — Яном Петровичем Горенштейном. Игорь ходил на все матчи «Динамо» в Киеве. «А тут, — вспоминает он, — такая игра, а я в Одессе. С утра места себе не находил: как же я пропущу такое событие? Прихожу в институт, карманы пусты — какие деньги у приезжего студента? Но план в голове уже созрел. Начинаю издалека. Говорю ребятам: “Вот сегодня такая игра... Давайте соберём копеек по 50 или по рублю и поставим на результат. Вся сумма — угадавшему”. А сам понимаю, что у организатора тотализатора и хранятся деньги. Мне бы только на дорогу до Киева собрать — 7 рублей 50 копеек на авиабилет по студенческому и копеек 20, чтобы добраться до аэропорта. А там я не пропаду — Гришина первая супруга Лина мне всегда поможет... Короче говоря, на мою “приманку” клюнули чуть ли не все мои одногруппники. Большинство ребят были или из Одессы, или из Ильичёвска, и родители каждый день давали им какие-то деньги — рубль или два. Словом, собрал я рублей 12 или 14, а это уже почти на дорогу в два конца, и после первой пары на такси рванул в аэропорт. Благо билет на самолёт можно было купить без проблем. Каждый час рейсы были».
Родителям Игорь звонить не стал — он же с занятий сбежал. Но его всё же «рассекретили». Совершенно случайно именно в день матча его решил проведать в институте двоюродный брат, только-только вернувшийся из Владивостока, где он устанавливал на подводных лодках холодильное оборудование. Соученики ему и сказали, что Игорь уехал в Киев на футбол. Володя поделился новостью со своими родителями. «Естественно, — говорит Игорь Михайлович, — мой дядя, профессор, преподававший историю КПСС, как человек правильный, позвонил моим родителям. Но надо отдать должное отцу и матери: отлавливать меня до футбола они не стали, а взяли тёпленьким уже после матча, на квартире у брата — со скандалом и “напутственными” речами. После чего вручили “непутёвому” сыну деньги, чтобы расплатился с ребятами (победителем тотализатора я так и не стал). Утром я улетел в Одессу. Перед последней парой пришёл в институт и в торжественной обстановке вручил призовые победителю. Все пережитые неприятности в тот момент меня уже не касались. Я был на матче “Динамо” — “Бавария” и собственными глазами видел этот триумф! По сей день эта игра, победа в ней 2:0 стоит перед моими глазами».
«Динамо» вполне могло навсегда сохранить трофей у себя. Розыгрыш Суперкубка ведь был неофициальным. Привезли тогда огромную вазу, в которую вмещалось содержимое двух дюжин бутылок шампанского, вручили киевской команде и уехали. Через год известный импресарио Юрий Украинчик (он занимался организацией коммерческих матчей советских команд за рубежом и имел тесные контакты с УЕФА) в преддверии борьбы за Суперкубок между «Баварией» и «Андерлехтом» прислал в Киев телеграмму, в которой просил переправить трофей в Брюссель. Как он сам рассказывал, на возврат «чаши» он не надеялся, телеграмму прислал «на всякий случай».
В Киеве рисковать не стали. Упаковали Суперкубок и отправили с коробкой в Брюссель через Москву Михаила Ошемкова. 36-килограммовый Суперкубок провёл в советской столице две ночи: первую у родственников Михаила Олеговича в Филях, вторую — в нашей тогдашней квартире в Сокольниках, куда мой друг Ошемков привёз кубок перед вылетом в Бельгию. «Андерлехт» по пути «Динамо» не пошёл и, обыграв «Баварию», навсегда оставил Суперкубок у себя.
Победы, одержанные в 1975 году, — знаковые ещё и потому, что обыграны были ведущие на тот момент клубы Голландии и ФРГ — стран, чьи сборные годом раньше подарили потрясающий финал чемпионата мира, образцово-показательную демонстрацию абсолютно всех элементов тотального футбола, заступившего в первой половине 70-х годов на царствование в тактике. Киевляне обыграли большую группу участников грандиозного финала, выступавших за ПСВ и «Баварию». «Эти победы, — писал в киевской газете «Комсомольское знамя» Валерий Мирский, — прославляющие советский спорт, советских людей, великую социалистическую Родину, несут нашему футболу перемены, давно стучавшиеся в дверь».
Редкий для середины 70-х не киевский игрок сборной СССР, спартаковец Евгений Ловчев, однажды признался болельщикам «Спартака» в том, что иногда мечтает поиграть за киевское «Динамо». На такое смелое заявление Ловчева подвигло знакомство с порядками в киевском клубе, которые, по его словам, он связывал с личностью Лобановского.
Спартаковский защитник был приглашён в сборную Союза перед отборочным матчем чемпионата Европы. Вместе с одноклубником вратарём Александром Прохоровым Ловчев отправился самолётом в Киев, а из аэропорта «Борисполь» — прямиком на динамовскую базу в Конча-Заспу: национальную команду Лобановский с помощниками собирал там, поскольку проще было принять трёх-четырёх «чужаков», чем везти всё киевское «Динамо» в Москву.
Спартаковцы попали на просмотр повторного матча киевлян за Суперкубок с «Баварией» и были вынуждены оправдываться, объяснять, почему они опоздали. Задержка произошла не по их вине. Да и не была она такой, чтобы за неё резко отчитывали приглашённых из Москвы игроков. Ловчеву, однако, полученная взбучка пришлась по душе, потому что свидетельствовала о порядке.
Привыкший в «Спартаке» к гвалту, сопровождавшему просмотр каждого, тем более победного матча, Ловчев был поражён тишиной в холле второго этажа тренировочной базы: динамовцы смотрели на экран молча, сосредоточенно. Лобановский лишь однажды нарушил тишину, спросив у Блохина: «Ты почему не был на точке, когда последовала передача Веремеева с фланга?» — «Да он плохо подал», — пытался оправдаться Блохин, забивший в ворота «Баварии» оба гола. «Я не спрашиваю о том, как подал мяч Веремеев, — сказал Лобановский. — Я спрашиваю: почему ты не был на своей точке?»
Ловчев не мог, конечно, не поинтересоваться потом, о какой «точке» шла речь. Оказалось, территория в штрафной или перед штрафной соперника у киевлян была поделена на зоны, и в них при стандартных ситуациях или фланговых передачах должны были врываться игроки, за которыми «точки» эти были закреплены. Догмы, разумеется, никакой не было, футболисты могли — это не возбранялось — оказываться не на своих, а на соседних «участках», но при этом требовалось занимать все «точки». Исключались — и это, убедился Ловчев, тщательно репетировалось на тренировках, — передачи наобум, во время которых все атакующие игроки располагались на одной линии.
Лобановский уже на следующий день после матчей не просто просматривал с футболистами записанные Ошемковым на японский катушечный видеомагнитофон игры, но проводил, используя повторы необходимых эпизодов, углублённое теоретическое занятие. Он акцентировал внимание игроков на ведении коллективных действий — немцами и голландцами прежде всего.
После просмотра в Конча-Заспе киевского матча с «Баварией» Лобановский потребовал принести ему все газеты с восторженными отчётами о победе киевлян в Суперкубке. «Об этом мы на время должны забыть», — сказал он.
Удивили спартаковца и установки перед тренировками. Они позволяли работать гораздо интенсивнее. Между сменой упражнений не возникало пауз. Игроки ещё в помещении узнавали, какое упражнение за каким последует. Расшифровывалась также направленность каждой серии. В других же командах объяснения происходили на поле непосредственно во время занятий: игроки несколько минут стояли и слушали тренера.
Товарищеский матч сборной СССР с Италией 8 июня 1975 года стоит особняком. Во-первых, проводился он в присутствии 70 тысяч зрителей в «Лужниках». Во-вторых, впервые в майках сборной на поле московского стадиона вышли в стартовом составе одиннадцать игроков одной команды — киевского «Динамо», и один из них — Анатолий Коньков — забил в той встрече единственный гол. Даже на замену не вышел никто из «посторонних». Такое кадровое решение было, что и говорить, ударом по московскому футбольному начальству. И не только футбольному. В истории мирового футбола не отыскать аналога, когда какая-либо команда в полном составе становилась национальной сборной своей страны и одинаково успешно играла в обоих турнирах — для клубов и для сборных.
Вечером после матча мне довелось беседовать с капитаном итальянской сборной Факкетти, и, естественно, я поинтересовался его мнением. Факкетти считает, что наша сборная ныне выглядит здорово, и прямо сказал, что он не слишком огорчён проигрышем, ибо к этому привели действия соперника, выступавшего лучше, выглядевшего командой более сыгранной, умелой, крепче сколоченной: «У нас много молодых, и они растерялись, когда после перерыва советская сборная заиграла в голландском ключе, а особенно после пропущенного мяча, когда взаимозаменяемость ваших игроков совсем уже сбила с толку нашу молодёжь».
Сборная Италии была в то время оселком, на котором можно было проверить свои реальные силы, пусть даже в товарищеском матче. «Победой над такой командой мы вправе гордиться, — резюмировал «Советский спорт». — Сейчас немало говорят и пишут о благотворном сотрудничестве, установившемся между тренерами В. Лобановским и О. Базилевичем и спортивной наукой. Всё так. Плоды этого союза налицо — функциональные возможности, или, попросту говоря, беговая и атлетическая подготовка киевлян, составляющих основу сборной, выросли, и это отрадно. Но это только часть важной работы. Одна её сторона. Другая, не менее важная, чисто творческая часть — прерогатива и искусство только тренеров. И об этом нельзя забывать. Важно понимать, куда, к какому футболу зовут тренеры своих питомцев. И здесь В. Лобановский и О. Базилевич, представляя наш футбол вместе со своими игроками на всех уровнях, будь то в клубном турнире Кубка кубков или под флагом сборной страны, оказались на высоте. Истолкование игры киевлянами в высшей степени современно. В нём есть место и остроатакующему футболу, и нарочито замедленному розыгрышу мяча, подчас ставящему в тупик соперников».
«Тренера без игроков не бывает» — это убеждение Лобановский пронёс через все тренерские годы. Он считал, что когда у тренера единое с футболистами понимание цели — по максимуму! — можно решать самые серьёзные задачи.
«Я смотрю на них в раздевалке после матча — неважно какого, выигранного или проигранного, но забравшего все силы, — рассказывал Лобановский в книге «Бесконечный матч». — Тела, не остывшие от битвы, брошены в кресла, руки висят, словно плети, глаза полузакрыты. Ребята выложились полностью, и не надо ни о чём говорить. Пройдёт несколько минут, они примут душ, оденутся и станут похожими на сверстников, которые наблюдали за ними с трибун и по телевизору.
Бывает, возбуждение, царившее на поле, переносится в раздевалку, и тогда — либо чересчур громкие реплики, весёлые, с подначкой, безотносительно, быть может, к матчу, в котором одержана важная победа, либо разговор на повышенных тонах, со взаимными упрёками и излишним детализированием запомнившихся моментов, приведших, по мнению участников “экспресс-анализа”, к поражению».
Сколько же было таких вечеров в раздевалках стадионов разных городов и стран после матчей с «Зенитом» или «Пахтакором», «Ботафого» или «Утрехтом», сборными Ирана или Бразилии?.. Калейдоскоп стадионов, городов, стран, соперников. Реестра Лобановский не вёл, но за тридцать четыре года тренерской деятельности команды, которыми он руководил, провели примерно 1300 матчей.
Однажды знаменитый советский спринтер Валерий Борзов уговорил Лобановского помочь ему создать образ идеального футболиста из тех, с кем Валерий Васильевич работал в советские времена. Никогда ничем подобным Лобановский не занимался, отмахивался, когда его просили сравнить силу «Динамо»-75 и «Динамо»-86, слыл противником составления всевозможных «символических сборных». Но Борзову пошёл навстречу, и они, по словам выдающегося спортсмена XX века, пришли к мнению, что идеальным мог бы стать футболист с характером Блохина, скоростью Беланова, техникой Заварова, ударом Буряка, мощью Конькова, рассудительностью Фоменко, выносливостью Яковенко, лидерскими качествами Колотова и универсализмом Бессонова.
«Спросите, скажем, у Виктора Матвиенко, у других футболистов из 1975 года о том, о чём спрашиваете меня, — говорит один из украинских футбольных тренеров Анатолий Крощенко. — Один не может стоять, другой — ходить...» А поинтересовались репортёры у Крощенко о том, как сказались в дальнейшем на игроках применявшиеся Лобановским и Базилевичем нагрузки в середине 70-х годов.
А ведь можно просто пройтись по тому знаменитому составу, поразившему игрой не только Советский Союз, но и всю футбольную Европу. Плохо ходят или даже плохо стоят (так было, во всяком случае, по состоянию на 2016 год) Трошкин, Матвиенко и Мунтян, которым исполнилось, соответственно, 69, 68 и 70 лет. Они перенесли операции, связанные с коленными и тазобедренными суставами, которые переносят и обыкновенные люди, а тем более занимавшиеся так называемым «большим спортом».
«Я, — говорил в начале 2017 года знаменитый итальянский футболист и тренер 57-летний Карло Анчелотти, — двадцать лет был профессиональным спортсменом и теперь не могу бегать. Моё колено вышло из строя, то же самое могу сказать про спину... И если мне сегодня скажут, что спорт полезен для здоровья, — не соглашусь».
Михаил Фоменко (68 лет) успешно работал на посту председателя тренерского совета Федерации футбола Украины, возглавлял национальную сборную страны, которую вывел в финальную стадию чемпионата Европы 2016 года во Франции. Играть Фоменко закончил рано, в 30 лет, но причина того — не нагрузки, а проблемы со спиной, они сопровождали Михаила с восемнадцатилетнего возраста. У него постепенно съехали межпозвоночные диски. «Из-за этого, — говорит Фоменко, — последние два года в “Динамо” я очень много травм получал — и с задней, и с передней поверхностью бедра начались проблемы. Даже финал Кубка кубков я играл после микронадрыва. На предматчевой разминке почувствовал боль и мог, в принципе, не сыграть в финале. Но массажист финалгоном натёр, и... То ли мазь жжёт, то ли надрыв болит — уже не разбираешь!»
В Леселидзе в 74-м, когда «Динамо», вместо того чтобы, как все, тренироваться с мячом (на ужасном, к слову, единственном поле), принялось накручивать круги по беговой дорожке, выполнять серии «5 по 300», «осваивать» барьеры, совершать прыжки, над киевскими футболистами смеялись. После выигрыша — внешне с лёгкостью — Кубка СССР и чемпионата страны смеяться прекратили.
Стефан Решко (68 лет) — прекрасно выглядит, следит за собой. Полковник МВД. «Мне кажется, — говорит Решко, — суть вовсе не в том, кто и как отзывается о нагрузках Лобановского, которые — чего уж лукавить — действительно порой казались запредельными, а в том, что он сумел результатами команды доказать свою правоту. Это была замечательная школа, не шедшая ни в какое сравнение с инфизкультами, которые все мы поголовно заканчивали. Хорошо помню, как мой партнёр по обороне Миша Фоменко — сегодня один из лучших украинских тренеров — конспектировал занятия Лобановского. То же самое делали и Володя Мунтян, и Володя Веремеев, и покойный Виктор Колотов... Несомненно, что все они как тренеры “вышли из Лобановского”».
Леонид Буряк (63 года) — такой же подтянутый, как прежде, выглядит моложе своего возраста. Работал главным тренером и сборной Украины, и киевского «Динамо».
Владимир Веремеев (68 лет) — активно трудится в спортивном департаменте динамовского клуба.
Анатолий Коньков (67 лет) — и тренерской работой занимался, и Федерацию футбола Украины возглавлял, бодр и активен. Лобановский, к слову, рассказывал мне, как в начале 1975 года разговаривал с Никитой Павловичем Симоняном сразу после того, как возглавил с Базилевичем сборную СССР. Симонян, работавший тогда заместителем начальника Управления футбола, скептически отнёсся к приглашению в национальную команду Конькова: «Он же медленный, будет всю игру тормозить». Это потом, когда он сам стал тренировать сборную, не мыслил её без Конькова.
Владимир Онищенко (68 лет) — отличная тренерская карьера: возглавлял «Динамо», работал в штабе у Фоменко, в последнее время не очень-то востребован, но со здоровьем это никак не связано.
Олег Блохин (64 года) — образец спортсмена, всегда ладившего с режимом и дисциплиной. Много лет проработал тренером в Греции, в 2006 году под тренерским началом Блохина сборная Украины попала в восьмёрку сильнейших команд планеты на чемпионате мира в Германии, тренировал он и российский клуб «Москва», и киевское «Динамо». Играл Блохин на высшем уровне до 36 лет.
Рано ушёл из жизни Виктор Колотов, но нагрузки тут ни при чём. Жестокая психологическая травма, нанесённая Виктору футболистами украинской молодёжной сборной (они фактически «сдали», то есть без борьбы проиграли официальный матч сверстникам из Исландии; «Ребята, — спросил игроков Колотов в раздевалке после встречи, — что я вам сделал?»), несправедливое после исландского поражения увольнение, угнетённое состояние — этот «набор» своё гнусное дело и сделал...
Лобановский позвонил мне 4 января 2000 года. Сказал потухшим голосом: «У нас беда. Большая беда. Витя Колотов сегодня ночью умер». У Колотова в декабре 99-го было предынфарктное состояние. Его положили в Октябрьскую больницу. Сначала в реанимацию, потом в обычное отделение. Перед Новым годом он был в санатории. На Новый год сбежал оттуда. 4 января собирался вернуться. В ночь на 4-е скончался. «Жизнь — копейка», — добавил Лобановский. На похоронах была команда-75 практически в полном составе. Лобановский взял с собой тёмные очки. Глаза его были полны слёз. Он болезненно относился ко всему, что напоминало ему о неизбежном конце. Этот бесстрашный человек чувствовал здесь своё бессилие. Света Лобановская видела отца со слезами на глазах дважды — когда умерли его мама Александра Максимовна и старший брат Женя.
...А мужество этих ребят?!
Бойцовских качеств одного только Стефана Решко с лихвой бы хватило на весь динамовский состав образца десятых годов XXI века — со всеми нанятыми на работу за большие деньги легионерами. Ловчев однажды разорвал ему надкостницу (Решко играл без щитков: неудобные они тогда были, мешали), так Стефан, видя, что нога в крови, не ушёл с поля. И нос ему ломали, и зубы выбивали, и с поломанной рукой он продолжал играть, пока не увидел, что она сильно распухла.
Веремеев, для того чтобы не выходить из игры, просил делать укол в пах. Мунтян выходил на поле на уколах и бился. После повреждения мениска играл! Матвиенко после операции ещё три месяца надо было восстанавливаться, лечиться, а он уже через три недели рвался тренироваться. У бесстрашного Онищенко было несколько сотрясений мозга. Блохин в финале Кубка кубков 1975 года играл со сложной повязкой на ноге, наложенной поверх остававшихся неснятыми швов — следов жестокой игры против него в Ереване. Никто не знал, что он играл с исколотым голеностопом, что из его колена выкачали двадцать кубиков жидкости, вместе с кровью. Перед вторым в его жизни финалом Кубка кубков рядом с Блохиным, получившим в матче за сборную надрыв приводящей мышцы, разминался Вадим Евтушенко: Блохин не знал, сумеет ли он сыграть. Сумел. У Колотова, «молчаливого капитана», как его называли, однажды после столкновения коленная чашечка оказалась на бедре. Он её поставил рукой на место и вернулся в игру.
Их никто — ни Лобановский, ни Базилевич, ни тем более «начальники» — не заставлял не обращать внимания на кровь, сотрясения мозга, неснятые швы, сдвинутые коленные чашечки... Они — сами. «У нас, — говорит Решко, — был коллектив, который хотел добиться успеха, не денег... Мы тоже хотели жить хорошо. И жили неплохо. Но мы так представляли себе жизнь: сначала выиграть, а потом что-то попросить...»
В обойме того «Динамо» было четырнадцать высококвалифицированных игроков. Они летали по Союзу на рейсовых самолётах, порой допотопных, выходили на поле через три дня на четвёртый и продолжали, не ноя, драться.
Тех, кто считает практиковавшуюся в «Динамо» систему «потогонной», Базилевич называет непрофессионалами. Подавляющему большинству футболистов, поработавших с Лобановским и в 70-е, и в 80-е, и в 90-е годы, и в голову не приходит жаловаться на «загубленное» в Киеве здоровье. «Если кто и ломается, — говорит Базилевич, — только слабые и недисциплинированные: посмотрите, в какой отличной форме до сих пор находятся Демьяненко, Буряк, Кузнецов, Беланов, Заваров, Михайличенко и масса других, не менее “измочаленных” Лобановским футболистов!»
 ТЕЛЕГРАМ
ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник
Книжный Вестник Поиск книг
Поиск книг Любовные романы
Любовные романы Саморазвитие
Саморазвитие Детективы
Детективы Фантастика
Фантастика Классика
Классика ВКОНТАКТЕ
ВКОНТАКТЕ