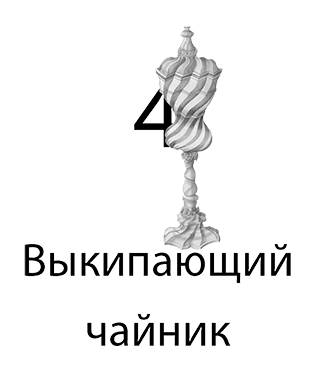

Раз, два, три —
Чаю завари!
В чайник прыгнул паучок
И сидит внутри!
Папа, прибегай скорей,
Сам посмотри!
Я отчетливо помню тот момент, когда полицейские перестали искать живого человека и приступили к поискам тела. Конечно, спустя столько времени его уже невозможно было бы опознать. С того дня они звонили папе и говорили, что нашли не «кого-то», а «что-то». Нашли что-то в лесу. Нашли что-то в реке. Что-то.
Он ездил с ними посмотреть на находку. С нами приезжала посидеть Линдси, или ее сестра Мэл, или, если дело было ночью, они обе, потому что наш дом казался им «жутким». Они приносили с собой тортик или разноцветные пирожные, поили меня горячим шоколадом и разрешали допоздна смотреть детективные сериалы. Я годами думала, что они специально выбирали программы. Эдвард уезжал беседовать с полицией, а я смотрела передачи, в которых детективы всегда раскрывали дело. До недавних пор мне даже в голову не приходило, что мне просто включали то, что шло в эфире. Обычный набор вечерних программ, которые показывали, когда я уже ложилась спать.
Эдвард возвращался домой, отрицательно мотал головой, и никто не говорил ни слова. Сейчас он сожалеет о том, как проходили эти опознания, где он встречался с другими семьями — чужими мужьями, женами, родителями, взрослыми детьми, которые тоже приезжали в надежде, что полиция нашла что-то, что искали они сами. Сожалеет, что не разговаривал тогда с ними, не брал их адреса, не обещал быть на связи, не интересовался — нашли или еще нет? Нашлась? Нашелся? Можно было организовать группу поддержки и регулярные встречи в формате пикников. Но нет. Что-то мешало ему смотреть остальным в глаза и спрашивать: кого вы ищете? Что-то мешало остальным смотреть в глаза ему и задавать тот же вопрос.
Он возвращался домой, а я ждала от него историй. Вот бы он рассказал, почему эти люди там оказались, кого искали, кто исчез из их жизней. Я хотела знать: как случилась потеря? Вся семья ушла за покупками, и кто-то пропал на парковке? Все уехали в отпуск, и кто-то потерялся на пляже? Кто-то ушел из дома, как у нас? Пропавшие надели пальто или исчезли в чем были? Они взяли сумки или какие-то вещи? Может, деньги? Им было куда еще пойти?
Я собирала истории утрат, потерь, стыда; отец Сюзанны был первым, кто рассказал мне нормальную историю исчезновения. Если память мне не изменяет, я влюбилась в него задолго до того, как он рассказал мне об исчезновении его собственной матери. Возможно, я уловила какой-то исходящий от него сигнал, увидела признак брошенности. Его мать ушла из дома, и он спросил отца, когда она вернется, а тот в ответ распахнул дверцы гигантского шкафа в их спальне. Пустого шкафа. «Тут обычно лежат ее вещи, — пояснил он. — Так что она, похоже, не вернется». Такие дела. Пустые вешалки, тихонько постукивая, качаются на штанге. Пахнет древесиной и больше ничем. Ему было столько же лет, сколько и мне, когда моя мать исчезла. Он прекрасно помнил ее уход. Не сам момент ее отбытия, конечно, но момент осознания — определенно. У меня же не было ничего. Признаюсь, был соблазн присвоить себе его опыт. Он гораздо лучше моего.
А что же помню я? Я помню, как к нам приходили полицейские. Тот, что постарше, разговаривал с Эдвардом, а молодой сидел за кухонным столом и разглядывал собственные руки. На его шее, где воротничок натер кожу, виднелась сыпь. Я стояла у плиты позади его стула и прикидывала, как бы поставить чайник. Я раньше никогда не кипятила воду в чайнике. Мне не разрешалось трогать плиту. Однако я знала, что так полагается делать, когда кто-то приходит в твой дом и сидит в кухне будто бы в ожидании.
Джо плакал в люльке на полу. Мне нельзя было брать его на руки самостоятельно. Это правило было гораздо более строгим, чем правило о чайнике. Мне никто напрямую не запрещал кипятить воду в чайнике. Не было повода. Но правило насчет младенца было весьма конкретным: можно погладить его по личику, можно развлечь его игрушкой или погремушкой. Песенку можно спеть, за ручку подержать. Но брать на руки — нет.
Пол в кухне был неровный и каменный. Если вдруг мама была в ванной, или наверху, или развешивала в саду белье, или говорила по телефону в гостиной, а Джо принимался плакать, — я все равно ни в коем случае не должна была вынимать его из люльки. В люльке он в безопасности. Слезы ему не навредят, в отличие от каменного пола. Ножки можно целовать, а щечки — не надо, потому что можно чем-нибудь заразить. Надо переодеть — кладем пеленку на пол, а не на стол. Не давай ему ничего тянуть в рот, не то проглотит. Руки мой с мылом.
Так что я сидела возле люльки, пока он плакал, пыталась развлечь его песенкой, целовала ему ножки через ползунки и играла в «ку-ку!» Он рыдал все громче и громче, чайник кипел и кипел, а пар заполнял кухню. Это был такой чайник, который ставят на огонь, он не отключался сам. Не знаю, сколько мы так просидели. Вроде бы недолго. Не помню — это Эдвард пришел и убрал чайник с плиты, или полицейский наконец встал и сделал это сам.
Не знаю, кто из них взял малыша. Перед глазами стоит образ: Эдвард ходит туда-сюда по кухне с ребенком, похлопывает Джо по квадратной спинке размером с его ладонь, тот икает, срыгивает молоко, оно стекает по папиному пиджаку. Но из какого дня этот образ? Сколько раз я видела одно и то же? Ежедневно. Долго. Не представляю, в каком порядке должны идти эти воспоминания.
Как я могла не заметить, что она ушла? Как пропустила тот миг, ту секунду, когда она вышла за дверь? Годами пытаюсь понять. А если бы я увидела и пошла за ней? Если бы я повела ее посмотреть, что я там навырезала из бумаги? Или попросила сделать мне куклу-трубочиста? Или догнала ее на полпути к реке? Она ушла без резиновых сапог. Вот бы я побежала за ней в хорошей обуви и испачкалась? Может, она бы тогда вместе со мной вернулась переобуться? Возможно.
Нет, она не бросила нас одних, не думайте. С нами была миссис Уинн. В том году миссис Уинн постоянно приходила помогать по хозяйству, потому что родился Джо. Она обычно приезжала после обеда. Мама уносила Джо в свою спальню, кормила его и спала вместе с ним, а я тихо занималась своими делами, чтобы не потревожить их сон. Миссис Уинн складывала детские вещи, убирала посуду и сидела со мной, пока я переписывала стихи в свою тетрадку. Иногда она играла со мной в настольную игру.
Она не включала пылесос, чтобы никого не разбудить. Она мыла полы и чистила картошку на ужин. Когда она наклонялась, из-под юбки выглядывали коричневые резинки чулок. Она повязывала мне кухонное полотенце вместо фартука, и мы вместе пекли капкейки. Ее мягкие руки были сами похожи на тесто, и пока она заправляла мне полотенце в джинсы, вокруг витал аромат ванили. Она ничему не удивлялась. Ни когда на игральных кубиках выпадало «шесть-шесть», ни яйцу с двумя желтками.
Когда мама с Джо спускались вниз, миссис Уинн заваривала чайник чаю. Они с мамой выпивали по чашечке, умилялись младенцу, я показывала маме результаты своих трудов, а потом миссис Уинн уезжала на своем медленном разболтанном велосипеде. В дождь она прикрывала свою завивку пластиковым капюшоном. Даже не скажу, сколько времени она обычно у нас проводила. Час или два.
И я также не могу сказать, когда ушла моя мама. Вроде бы днем. Когда до меня дошло, что произошло что-то очень плохое, миссис Уинн уже успела вызвать Эдварда с работы, поскольку ей самой пора было идти домой, а она не знала, куда подевалась моя мама. Не припоминаю, чтобы я искала ее по всем комнатам. Не припоминаю, чтобы миссис Уинн принесла люльку с Джо вниз, когда тот проснулся. Не припоминаю, чтобы мы бегали по саду под дождем и звали маму. Ничего не припоминаю — хотя все это наверняка имело место.
Помню, как миссис Уинн звонила Эдварду — просила пригласить к телефону доктора Брауна. Как говорила что-то вроде: «Я извиняюсь, может, она и предупреждала меня о какой-то встрече или делах, но на самом деле не припоминаю». Помню, как, пока миссис Уинн говорила, воздух вокруг менялся, постепенно превращаясь в желе, и все объекты вокруг начинали подрагивать, если смотреть на них слишком долго. Слова перестали быть нормальными словами. От них воздух вокруг телефона стал скользким.
Я помню, как ждала у окна, выглядывая машину Эдварда. Помню, как миссис Уинн отворачивалась от меня и как ее смущение заполняло пространство вокруг. Еще до приезда Эдварда мы внезапно утратили способность смотреть друг другу в глаза. Мы обе были дома. И мы ее потеряли. Стыд заполнял дом, комнату за комнатой, будто раздувался огромный вязкий шар, высасывал отовсюду воздух, не давал дышать.
Когда Эдвард вернулся, миссис Уинн была готова остаться и помогать нам в ожидании возвращения мамы, но он вызвал ей такси, чтобы не пришлось в темноте крутить педали велосипеда. Он сказал: «Уверен, это какое-то недоразумение». Но миссис Уинн смотрела в пол, будто боялась подхватить инфекцию. Будто один лишь взгляд глаза в глаза мог заразить ее нашей постыдной неправильностью, нашей ущербностью. Настала ночь, от мамы не было вестей, и Эдвард позвонил в полицию.
Наверняка Джо не мог весь вечер проплакать в люльке на кухонном полу. Ну похныкал пару минут, пока Эдвард беседовал на улице с полицейскими, чтобы дочь не слышала разговора. Но я запомнила другое: младенец рыдает, родителей нет, а посреди клубов пара сидит человек в униформе и не знает, что делать. Вот такой драматический образ — как пустой шкаф, как момент ухода.
Эдвард изо всех сил пытался общаться с полицейскими то на улице, то в другой комнате, но на дворе стоял вечер, а Джо плакал. Он всегда плакал по вечерам. Мама называла это шестичасовыми коликами, а если я замечала, что уже, к примеру, без четверти восемь, она отвечала: «Он еще маленький и не понимает по часам». Я все пыталась привести Эдварда, чтобы он носил Джо на руках и успокаивал — обычно это помогало, — так что, несмотря на все его попытки оградить меня от разговора, главное я услышала.
Полицейский спросил, не считает ли Эдвард, что его супруга была в состоянии, в котором человек способен причинить себе вред. Нет, отвечал Эдвард, однозначно нет. Да он бы на работу не поехал, если бы хоть на секунду засомневался, что она — нет, нет, что вы.
И полицейский очень тихо сказал: «Видите ли, мистер Браун, если мы узнаем, что она в опасности, что она в опасном состоянии сознания, мы можем начать поиски незамедлительно».
Последовала долгая пауза. Эдвард не смотрел на полицейского. Он ходил туда-сюда мимо кухонного окна, покачивая Джо на плече. Раскачивался, похлопывал Джо по спинке. Потом обернулся — весь белый, кожа натянута, лицо жесткое.
— Понятно, — сказал он. — Хорошо. Я полагаю, моя жена была в опасном для себя расположении духа, когда днем ушла из дома.
Полицейский закрыл свой маленький черный глянцевый блокнот и с хлопком зафиксировал вокруг него резинку.
Я помню, чем мы в тот день ужинали. Бобы и рыбные палочки. И дождь помню. Полицейские насквозь промокли, пока поднимались к нашему дому, с их ботинок текла грязь. Только вот мы не ели рыбных палочек с бобами, пока в нашем доме не появилась Линдси. И дождь перестал. Я помню, что, когда меня спрашивали про мамин плащ, я отвечала, что ведь дождь прекратился, зачем ей плащ. Так что будем считать, что шел дождь. Плевать на рыбные палочки. У меня не так много осталось. Пусть у меня будет хотя бы дождь.
 ТЕЛЕГРАМ
ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник
Книжный Вестник Поиск книг
Поиск книг Любовные романы
Любовные романы Саморазвитие
Саморазвитие Детективы
Детективы Фантастика
Фантастика Классика
Классика ВКОНТАКТЕ
ВКОНТАКТЕ