ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ СТАЛИНА
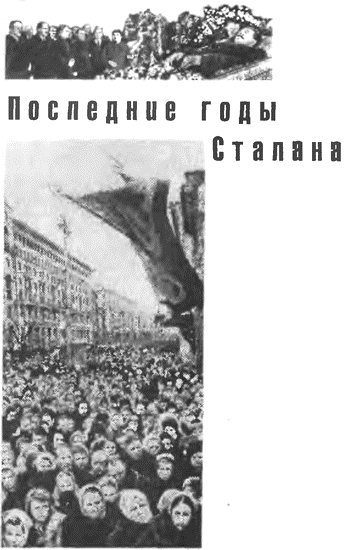
В 1945 г. Советский Союз представлял собой победоносную, но полностью разрушенную страну. Для того чтобы выиграть величайшую в истории войну, пришлось понести потери, которые превышали потери врага — и вообще потери любой нации в любой войне. По последним подсчетам, потери в ходе военных действий составили 7,5 млн. человек, потери среди мирного населения — 6–8 млн. человек; в конце 1939 г. население СССР насчитывало 194,1 млн.; в 1950-м — 178,5 млн., и это с учетом недавно аннексированных территорий в Прибалтике, Закарпатье (отобранном у Чехословакии в 1945 г.) и Молдавии (отнятой у Румынии в 1940 г.). К военным потерям следует добавить смертность в лагерях, которые во время войны продолжали вовсю функционировать, осуществляя авральное строительство, лесоповал и горные работы в колоссальных, порожденных требованиями военного времени масштабах. Питание заключенных тогда, может быть, еще меньше соответствовало физическим потребностям человека, чем в мирное время. Всего между 1941 и 1945 гг. преждевременная смерть настигла около 20–25 млн. граждан СССР.
Разумеется, наиболее велики были потери среди мужского населения. Сокращение численности мужчин 1910–1925 гг. рождения было ужасающим и вызвало постоянные диспропорции в демографической структуре страны. Очень много женщин той же возрастной группы остались без мужей. При этом они часто были матерями-одиночками, продолжавшими в то же время трудиться на предприятиях переведенной на военные рельсы экономики, остро нуждавшейся в рабочих руках. Так, по переписи 1959 г. на 1000 женщин в возрасте от тридцати пяти до сорока четырех лет приходилось только 633 мужчины. Результатом стало резкое падение рождаемости в 1940-х гг., и война была здесь не единственной причиной — эта тенденция, хоть и в более мягкой форме, продолжала существовать вплоть до 1970-х гг.
Украина, Белоруссия и большая часть Европейской России были разрушены, около 25 млн. человек остались без крова. Они подселялись к родственникам, которые и без того существовали в условиях ужасной скученности, жили даже в холодных землянках, вырытых среди городских развалин. Экономика была и перекошена, и полностью истощена. Производство зерна упало на две трети — по крайней мере именно такая цифра фигурирует в официальных отчетах. В промышленности наблюдался рост производства только той продукции, которая непосредственно шла на военные нужды, а производство товаров народного потребления и того, что было необходимо для послевоенного восстановления народного хозяйства, находилось на очень низком уровне. Стали выплавлялось 12,3 млн. тонн (против 18,3 млн. в 1940 г.); нефти добывали 19,4 млн. т. (31,1 млн.т.); цемента производилось 1,8 млн. т. (5,7 млн.т.); шерстяных тканей — 53,6 млн. метров (119,7 млн.м.); кожаной обуви — 53,6 млн. пар (211 млн.). Жилищное строительство и ремонт старых зданий вообще не велись, и это несмотря на огромную миграцию населения. По свидетельству Анатолия Федосеева, даже в Новосибирске, расположенном далеко от фронта, многие рабочие жили в трущобах на окраинах, в лачугах из ржавых кусков железа, досок, картонных ящиков, проволоки, стекла и земли.
Кроме жилья, люди прежде всего нуждаются в пище. Как мы видели, правительство сквозь пальцы смотрело на рост частного сельскохозяйственного производства и рынка продовольствия во время войны, поскольку существовала необходимость предотвратить массовый голод. Потому многие крестьяне надеялись, что колхозы будут распущены или по крайней мере сфера их влияния будет ограничена системой “звеньев”. Член Политбюро А. А. Андреев, курировавший сельское хозяйство, насколько известно, выступал за широкое распространение “звеньев” как основы системы коллективного земледелия. Той же точки зрения придерживался и Н. А. Вознесенский, председатель Госплана военных лет. Он даже советовал поощрять обработку крестьянами приусадебных участков и предполагал создание сети государственной розничной торговли произведенными частниками продуктами.
Такая политика означала бы некоторую реабилитацию НЭПа со всеми вытекающими отсюда последствиями, столь нежелательными для многих членов партии. Во всяком случае сам Сталин не собирался даже обдумывать эти меры. Напротив, постановление, появившееся в сентябре 1946 г., возвращало все земли, занятые частными лицами, обратно в колхозы. Таким образом, многие крестьяне, которые частным образом при попустительстве властей обрабатывали во время войны колхозные поля, теперь должны были сдать то, что они использовали ради собственной выгоды. Движение в сторону приватизации было остановлено, и центр тяжести государственной политики вновь переместился в сторону производственных планов и принудительных государственных заготовок. Это была плата за обвальное понижение цен. Цена картошки, например, не покрывала даже стоимости ее транспортировки из деревни в город. Поэтому колхозы иногда совершали совершенно нелепые вещи — они покупали яйца, овощи и молоко, предназначенные для выполнения их обязательств перед государством, на рынке, поскольку это было выгоднее, чем сдавать собственные продукты. В то же время выросли налоги на частные земельные участки, и председателям колхозов запретили выдавать колхозный инвентарь — плуги, сельскохозяйственные орудия, фураж — для нужд частных хозяйств. Даже раздобыть сена для коровы стало проблемой, требующей много времени и сил.
В дополнение к этим мерам в 1950 г. в “Правде” была осуждена система “звеньев”, заменивших собой привычные с конца. тридцатых годов “бригады”. Поводом для осуждения послужило то, что “звенья” препятствуют механизации сельского хозяйства. Андреев покаялся в том, что ошибался, рекомендуя вводить “звенья”, и полностью отрекся от намерения повсеместного их создания. Надзор над процессом сельскохозяйственного производства совершенно недвусмысленно стал снова обязанностью машинно-тракторных станций (МТС) и их партийных организаций. МТС опять стали распределять плановые задания, выполнять механизированные работы и взимать за них плату натурой, производя принудительные заготовки. К тому же колхозы были сильно укрупнены, предлогом к этому стала задача облегчить процесс механизации сельского хозяйства. На деле же эта мера упрощала контроль со стороны МТС и сельских партийных организаций. За два года количество колхозов сократилось с 250000 до 97000. В духе индустриализации, характерном для; этих перемен, некоторые были преобразованы в совхозы, или советские хозяйства, обычно специализировавшиеся на каком-то виде продукции. Работники совхозов получали регулярную заработную плату, наподобие промышленных рабочих.
Результаты завинчивания гаек были разрушительны. В то время острой нехватки продуктов питания, сельское хозяйство по своей продуктивности лишь едва покрыло уровень военных лет. В 1946 г. на Украине разразилась засуха, но государственные планы заготовок не были ни на йоту снижены. Как и в 1933 г., государство отняло у крестьян все запасы. Как и тогда, по мере необходимости применялась сила. Один председатель колхоза писал тогда Хрущеву, бывшему первым секретарем Украинской коммунистической партии: “Мы сдали государству нашу норму. Но мы отдали все. У нас самих ничего не осталось. Мы уверены, что партия и государство не забудут о нас и пришлют нам помощь”. Увы, надежды его были тщетны: крестьянам предоставили возможность умирать с голода. В деревнях отмечались случаи людоедства, но, разумеется, не в печати, которая держала голод в секрете и рассказывала сказки о счастливой жизни колхозников, в изобилии имеющих молочных поросят и красное вино. Когда Хрущев, одолеваемый дурными предчувствиями, все же решился доложить Сталину о реальном положении дел, тот грубо отказал в помощи и начал высмеивать Хрущева: “Ты легковер! Они тебя обманывают! Они понимают, что разбудят твои сентименты, потому и сообщают о таких вещах”. Вследствие этого Хрущева на время сменил более жесткий Каганович.
Зерновое сельское хозяйство очень медленно выбиралось из той пропасти, в которой оказалось в послевоенные годы. Даже в относительно благоприятном 1952 г. оно все еще не достигло уровня производства 1940 г., а продуктивность одного гектара была ниже, чем в 1913 г. Потому похвальба Маленкова о том, что страна решила зерновую проблему, прозвучавшая на состоявшемся в том году XIX съезде, не имела под собой никаких реальных оснований. В других сферах сельскохозяйственного производства положение было еще хуже. Даже в 1953 г. в Советском Союзе скота имелось меньше, чем в 1916-м, а население, которое нужно было кормить, выросло с тех пор на 30–40 млн. человек, при этом процент городского населения значительно вырос. Молоко и молочные продукты были доступны только в крупных городах, снабжавшихся лучше, да и то с перебоями. Продукция приусадебных участков, вопреки официальным запретам, стала основной поддержкой и для горожан, и для реального дохода крестьянства. В 1952 г. на таких участках, занимавших 1–2% земель, производилась едва ли не половина овощей, больше двух третей мяса, молока и картофеля и около девяти десятых яиц.
И на частных, и на коллективных землях основную рабочую силу составляли женщины. Многие уцелевшие на войне мужчины, сохранившие работоспособность, сделали все для того, чтобы не возвращаться обратно в деревни, ведущие нищенское и безнадежное существование. От чего они бежали, видно на примере статистики доходов колхозов. Один трудодень приносил колхознику один рубль или меньше — это меньше одной тридцатой стоимости килограмма черного хлеба или ста граммов сахара на рынке тех лет. Алек Ноув подсчитал, что среднему колхознику надо было работать год, чтобы он смог купить самый дешевый костюм.
Подавленное состояние духа и политические взгляды, явившиеся следствием этой нищеты, прекрасно описаны Федором Абрамовым в его романе, посвященном жизни отдаленных северных деревень. Там рассказывается, как в 1951-м секретарь райкома приехал навестить председателя колхоза и его жену, которая практически управляла колхозом, пока муж был на[21] фронте. Она жалуется, что вот уже шесть лет прошло после войны, но люди по-прежнему голодают, а государство по-прежнему требует все больше и больше. Тогда секретарь райкома упрекает председателя в том, что тот “плохой хозяин”, на что председатель дает ему следующую отповедь:
“Я хозяин? Ну-ну! Видал ты такого хозяина, который за одиннадцать копеек валенки продает, а они ему, эти валенки, обошлись в рубль двадцать? А у меня молоко забирают — так, за одиннадцать копеек, а мне оно стоит все два рубля.
— А кто у тебя забирает-то? Государство?
Ты меня на слове не имай! — Лукашин рывком вскинул голову. — Ну и государство! Ленин после той, гражданской, войны как сказал? Надо, говорит, правильные отношения с деревней установить, не забирать у крестьянина все подряд… К примеру меня взять… хозяина… Я ведь только и знаю, что кнутом размахиваю. Потому что, кроме кнута и глотки, у меня ничего нет. А надо бы овсецом, овсецом лошадку подгонять…”
Секретарю райкома не оставалось ничего другого, как только согласиться с председателем. Потом оба решили, что было бы лучше, если бы оба они забыли об этом разговоре. И хотя говорились такие вещи шепотом, были среди партийных работников и сельских начальников такие, кто ждал перемен и готов был с радостью приветствовать того, кто смог бы эти перемены начать.
Жизнь в городах была немногим лучше. Даже те, кто был достаточно состоятелен для того, чтобы не жить в землянках, бараках и времянках, страдали от тягот жизни. За исключением самой высшей элиты, большинство населения жило в коммунальных квартирах, где на семью, как правило, приходилось по одной комнате, а кухня, ванная комната и туалет были общими. Иногда комнаты не имели перегородок, и разные семьи отделялись друг от друга лишь простынями, свешивавшимися с потолка. Историк Александр Некрич лично знал случай, когда в одной комнате жили три семьи общей численностью тринадцать человек. Комната была площадью двадцать квадратных метров. В ней стояло семь кроватей: шестеро “лишних” спали на полу. Может быть, этот случай и был исключительным, но обстоятельства говорят о том, что не они одни оказались в подобном положении: (несмотря на регулярные заявления в местный совет, этих людей расселили только в начале шестидесятых годов. Сталин предпочитал строить огромные помпезные здания, где размещались старые министерства, раздувавшие свой штат, и новые, количество которых увеличивалось (министерства заменили собой наркоматы — еще один пример возврата к старой лексике).
Условия жизни ухудшились еще больше в результате решения правительства в 1946 г. отменить многоступенчатую систему платежей, существовавшую во время войны и позволявшую рабочим покупать продукты питания по доступным ценам. Розничные цены на все товары были установлены почти на уровне свободного рынка: другими словами, правительство переложило на граждан все тяготы, порожденные нехватками военного времени. В результате цена килограмма черного хлеба выросла с 1 рубля до 3 р. 40 коп., килограмма сахара с 5 р. до 15 р. 50 коп. Затем, в 1947 г., были отменены продовольственные карточки (раньше, чем во всех странах, участвовавших во второй мировой войне) и проведена денежная реформа. Целью ее стало присвоение пораженных инфляцией денег, накопленных в результате операций на черном рынке, а равно и тех, что были скоплены крестьянами благодаря частной торговле. Все небольшие вклады в государственные банки, до 3000 рублей, обменивались на новые деньги один к одному. Более крупные сбережения обменивались менее выгодно, а наличные деньги — в пропорции один к десяти. Таким образом те деньги, которые крестьяне, уголовники и дельцы черного рынка хранили в кубышке, внезапно обесценились. Даже о государственных облигациях военного времени было объявлено, что их новая цена составляет только треть номинала. В указе по этому поводу было сказано: “следует принимать во внимание тот факт, что во время войны на займы жертвовались обесцененные деньги. Таким образом государство просто списало свои долги и обезопасило себя от инфляции — за счет благосостояния всего народа.
Вскоре после этого цена на хлеб была немного опущена — с 3 р. 40 коп. до 3 р. Это стало первым в систематическом снижении цен на продовольствие, что вело к некоторому улучшению уровня жизни в городах с 1948 по 1954 гг. Как мы видели, платой за это была нищета колхозников. Тем временем реальная заработная плата в городах впервые начала превышать тот уровень, на котором была заморожена в 1928 г.
Четвертый пятилетний план, начатый Н. А. Вознесенским в 1946 г., предусматривал быстрый рост всех отраслей экономики. Законы военного времени были отменены, и потому рабочая сила направлялась по желанию плановиков в любой сектор экономики. В то же время продолжали оставаться в силе драконовские наказания за опоздания на работу, прогулы, пьянство и т.д. На практике плановые задания выполняла только тяжелая промышленность. К 1950 г. был превышен довоенный уровень в производстве чугуна, стали, угля, нефти, электроэнергии и цемента. Наконец, в 1950 г. тракторов было выпущено в три раза больше, чем в 1940 г. Это действительно выдающееся достижение послевоенного восстановительного периода помогает объяснить причины возрождения сельского хозяйства, которое началось несколько позже. Эти цифры подчас объясняются тем, что многие предприятия возводились заново, на месте старых, эвакуированных в 1941 г. Последние же по-прежнему выпускали продукцию на Урале и в Сибири — к неудовольствию рабочих, которые надеялись вернуться домой.
В области потребительских товаров, жилищного строительства, услуг и, как мы видели, сельского хозяйства, план в целом выполнен не был. Капиталовложений туда было направлено гораздо меньше, да и значение им придавалось гораздо меньшее, чем тяжелой промышленности. Таким образом, та модель, которая была избрана для послевоенного возрождения экономики, отбрасывала страну к тридцатым годам, и это несмотря на то, Что слабые стороны экономики война выявила полностью. Технологические достижения военного времени, вроде пластмасс и синтетической химии, не были освоены и развиты промышленностью. Необыкновенно разросшиеся министерства, располагавшие несравненно большими ресурсами, в зародыше душили всякую инициативу. Враждебность к иностранному влиянию, возникшая после окончания программы ленд-лиза, усугубила ее невосприимчивость к новациям. Начинало казаться, что плановая экономика обладает структурой, не поддающейся изменениям и бесчувственной и к нуждам потребителя, и к техническим достижениям. В то же время она блестяще проявляла себя в тяжелой промышленности.
После войны те слои общества, которые в результате войны получили власть и повысили свой социальный статус, сделали все, чтобы упрочить свои позиции. Как человек, любивший управлять без посторонней помощи, Сталин, чтобы как-то компенсировать последствия его плохо продуманной дипломатии, сдал несколько важных фигур. Он создал относительно независимое положение для офицерского корпуса, службы безопасности и государственного аппарата — и все это за счет партии. Последняя лишилась многих своих функций по моральной мобилизации масс и их организации в пользу Государственного комитета обороны, армейского командования и основных промышленных наркоматов. Действительно, многие партийные секретари (и прежде всего в районах, не бывших в оккупации) стали более самоуверенны и развили своего рода esprit de corps[22], в их положении нелишний. Но низшие звенья партии тонули в массе плохо подобранных и подготовленных новых членов, чья дисциплина оставляла желать лучшего, да и идеология была далека от былой твердости. Вообще идеология после войны стала делом деликатным: чистота ее замутилась от проникновения националистических элементов, которые многим пропагандистам были отвратительны. К тому же война вывела “двоемыслие” советских граждан из состояния шаткого равновесия. В суровейших условия идеалы, впитанные ими до мозга костей, были проверены практикой. Кроме того, они видели, как на эти суровые условия реагировали их вожди. Люди побывали за границей и потому могли сравнить жизнь в Советском Союзе с бытом других стран. Насколько опасным считала это служба безопасности, видно из ее отношения к бывшим военнопленным и тем, кто некоторое время жил за границей. Они подвергались суровым допросам, и многие на долгие сроки отправлялись в лагеря. В некоторых случаях НКВД пренебрегал даже и этими формальностями и просто расстреливал репатриантов в портах сразу же после того, как они сходили на берег.
Иностранные журналисты, присутствовавшие на пресс-конференции, данной маршалом Жуковым в июне 1945 г. в Берлине, отметили, что из слов маршала явствовало: победы Красной Армии — это его заслуга, а о Сталине он вспомнил “слишком поздно”. Такая самонадеянность не прошла мимо внимания Сталина, и он вскоре отправил Жукова в относительно второстепенный Одесский военный округ, сместив его со всех постов. Было сделано все для того, чтобы восстановить значение и внешнюю дисциплину партии в ее отношениях с армией. С июня 1946 г. право “выборов” (т.е. назначения) партийных секретарей в армейских частях было отобрано у командования вооруженными силами и вновь вернулось партийной иерархии. И хоть система политических комиссаров не была воссоздана, офицеры должны были повышать уровень своей политической подготовки в специальных школах, созданных в 1947 г. Другими словами, хоть особое положение военных было теперь стабильным, партия приступила к выполнению мероприятий, которые должны были сделать самих офицеров более “партийномыслящими”.
Прием в партию стал заметно строже уже в октябре 1944 г. Как и до 1941 г., от кандидатов требовались рекомендации старых членов партии. Им предстояло пройти продолжительный кандидатский срок, прежде чем они могли стать полноправными членами партии — во время войны эта практика вышла из употребления. В результате число новых членов сразу же резко сократилось, а партийные организации испытывали меньшее влияние со стороны сырых, неподготовленных новичков.
На высших партийных уровнях теперь стали уделять больше внимания формальной подготовке, которая стала необходимым условием продвижения по службе. Постановлением Центрального комитета от 2 августа 1946 г. была создана сеть высших партийных школ. Они имелись в столицах всех союзных республик и в двадцати пяти областных центрах Украины и России. Там секретари, инструкторы и пропагандисты районного уровня проходили двухгодичную подготовку. Способные выпускники могли продолжить свой рост, поступив в престижную Высшую партийную школу при Центральном комитете в Москве. На самом высшем уровне в то же время была создана Академия общественных наук, призванная восполнить недостаток исследователей и преподавателей в высших партийных школах, возникший после упразднения Института красной профессуры. Таким образом, окончательно сложилась “табель о рангах” служебного продвижения партийных “кадров” — выскочкам в кожаных куртках, столь характерным для двадцатых годов, уже не было места в мире, где царили протокол и формальные дипломы.
Руководящие органы партии также начали после войны новую жизнь. ГКО был упразднен в сентябре 1945 г., и потому Политбюро стало регулярно проводить свои заседания. Центральный комитет также перестал быть почти лишним органом, каковым он являлся во время войны, и избрал новый Секретариат и Оргбюро. Однако съезд партии не собирался вплоть до 1952 г.
Литература и искусство во время войны познали некоторую свободу от ежедневного вмешательства партии в свои дела. Естественно, большинство писателей и художников надеялись, что победоносная нация сможет позволить себе подобные послабления и в будущем. Однако Центральный комитет думал иначе. Возобновление жесткого контроля со стороны партии ознаменовалось в августе 1946 г. постановлением ЦК по поводу литературных журналов “Звезда” и “Ленинград”, где они осуждались за “низкопоклонство перед Западом”. Примечательно, что оба журнала издавались в Ленинграде, городе, который у Сталина вызывал наибольшее недоверие. Особыми объектами критики партийный куратор культуры Андрей Жданов избрал двух ленинградских писателей. Один их них, сатирик Михаил Зощенко, опубликовал рассказ о маленькой обезьяне, которая сбежала из зоопарка, провела день на воле, наблюдая жизнь в Стране Советов, и нашла ее столь непривлекательной, что сама вернулась в клетку. Жданов обвинил Зощенко в проповеди “гнилой безыдейности”, вульгарности и аполитичности, которые сбивают молодое поколение с истинного пути и “отравляют его сознание”. По мнению Жданова, Зощенко не интересовался трудовой жизнью советского народа, его героизмом и высокими моральными и общественными качествами. Другой мишенью нападок Жданова стала Анна Ахматова, чью глубоко личную лирическую поэзию, наполненную любовными переживаниями (и почти не публиковавшуюся в тридцатых годах), Жданов заклеймил как исполненную духом “пессимизма, декаданса… и буржуазно-аристократического эстетизма”.
Все это показывало, что партия опять идентифицирует себя с литературой высоких (но надуманных) моральных принципов, героических отношений, коллективизма и идеализации советской действительности, воссозданной в “ее революционном развитии”. Понимать все это следует в том смысле, что жизнь нужно изображать не такой, какая она есть, но какой она должна быть. Помимо этого помпезного оптимизма, другая тема получила распространение едва ли даже не большее: превосходство всего советского или русского (даже дореволюционного) над всем иностранным. Утверждалось, что все действительно прогрессивное появилось в России, и все это замечательным образом уживалось с очень сильными опасениями по поводу возможной привлекательности иностранных, прежде всего западных, идей для советских граждан.
В опусах, посвященных непосредственно жизни советского общества, теперь с трескучей навязчивостью надо было утверждать догму о руководящей роли партии, тем более потому, что она была поколеблена во время войны. Александр Фадеев, первый секретарь Союза писателей и человек во всех отношениях верноподданный, опубликовал в 1945 г. роман “Молодая гвардия”, где описывалась борьба группы молодых партизан в Донбассе против немцев. Последовал официальный упрек в том, что Фадеев не показал в своем произведении, как партия подготовила и организовала это сопротивление. Писателю пришлось переписать роман полностью. Вторая версия была опубликована в 1951 г. Она интересна тем, что хорошо показывает ценности и символы сталинистского общества. Роман глубоко консервативен, иерархичен и патриархален. Автор уверяет читателя, что героические традиции красных эпохи гражданской войны были переданы партией наследникам времен Великой Отечественной. В то же время в романе провозглашается первостепенная ценность сыновней любви и преданности русской земле. Действие романа происходит в Донбассе, но нет никаких описаний работы шахтеров или вообще каких-либо описаний трудовых процессов. Многие сцены разворачиваются как бы вопреки естественному окружению, обрисованному в пасторальных тонах. Таковы были ценности, заботливо взращиваемые партийными лидерами после войны.
Нечто похожее внедрялось и в другие виды искусства, а равно в науку и образование. Театры были тщательно прочесаны, и все пьесы западных авторов изъяты из репертуара, поскольку они “отравляли сознание советского народа враждебной идеологией”. Знаменитый кинорежиссер Сергей Эйзенштейн был осужден за недостаточно героическое изображение Ивана Грозного и его службы безопасности, бывшей одновременно и армией, и полицией, — опричнины. Параллель со Сталиным и НКВД была слишком очевидна, хотя прямо это никак не высказывалось. Столь же очевидно до сознания зрителя доводилось, что отныне русские цари, особенно те, кто был наиболее жесток и деспотичен, считаются “хорошими”. Музыка Шостаковича, Прокофьева и других ведущих композиторов подверглась нападкам за то, что не содержала ничего, кроме диссонансов, — в ней не было ни единой мелодии, которую мог бы насвистывать простой рабочий.
Общественные науки снова были жестко подчинены партии. Вышинский, церемониймейстер показательных судебных процессов тридцатых годов, снизошел до того, что в Институте права лично прочитал четырехчасовую лекцию об опасности недооценки роли государства как оружия в руках пролетариата (на всякий случай в лекции было несколько неуместных замечаний об “отмирании государства”). Директор института был смещен. Прошли специальные публичные заседания ученого совета, где людей обвиняли в “безродном космополитизме” и “преклонении перед буржуазными авторитетами”. Жертвами кампании стали многие евреи, среди которых оказался и профессор Гурвич, один из авторов конституции 1936 г. Это была и финальная кампания против “буржуазных специалистов”, и простое сведение личных счетов. Каждый сотрудник института мог встать и обвинить любого из своих коллег: если это случалось, то защищаться не было никакой возможности. Даже если жертва начинала каяться и заниматься “самокритикой”, этого было недостаточно для того, чтобы избежать увольнения.
В лингвистике теории академика Марра сохраняли влияние много лет. Они хорошо подходили классическому марксизму, поскольку Марр утверждал, что все языки восходят к единому праязыку, и по мере экономического и политического развития вновь сольются в единый язык международного пролетариата. Но первобытный интернационализм, однако, не подходил к послевоенным настроениям Сталина. В 1950 г. Сталин пришел к выводу, что только русский, и никакой другой, достоин быть единым языком пролетариата, и лично написал статью, где осуждал теорию Марра как “ненаучную и антимарксистскую”. Позиция же самого Сталина едва ли была марксистской в большей степени, чем теория Марра, поскольку он утверждал, что язык имманентно присущ национальной культуре, и намекал, что он не непроницаем для влияний со стороны социальных изменений. Как бы то ни было, но новая авторитарная доктрина вскоре стала пусковым механизмом, посредством которого лжецы и завистники начали против коллег кампанию увольнений и чисток. Надежда Мандельштам, которая в это время работала в провинциальном педагогическом институте, описала, как однажды вечером ее вытащили из постели и заставили явиться на специальное собрание их факультета. Там она увидела, что ее сотрудницы-женщины нарядились по этому случаю в свои лучшие платья. Они поносили ее за “недостаточное внимание” к “выдающемуся учению товарища Сталина о языке”, приверженности марристской доктрине, преследование талантливой молодежи среди преподавателей и завышение требований на экзаменах. Ей дали две недели на то, чтобы сдать дела, и уволили из института.
Партия добавила к этим персональным перестановкам и свои собственные нежелательные кадры. Мало преуспевшие старые члены партии теперь уже не подвергались, как в тридцатые годы, огульным арестам. Вместо этого их часто отправляли в академический мир, туда, где их косность и тупость не могли повредить развитию науки и техники, т.е., другими словами, в гуманитарные и социальные науки и на соответствующие факультеты. Нечего и говорить, что там они торопились взяться за проведение генеральной линии партии в той ее форме, которая им казалась самой последней.
Тенденции развития западной науки и философии беспокоили Жданова, так как угрожали простому, упорядоченному миру материалистического детерминизма, обязательному для преподавания во всех школах. На специально созванном собрании философов в июне 1947 г. он предостерегал, что кантианские капризы современных буржуазных атомных физиков приводят их к заключению, Что электрон обладает “свободой воли”, к попыткам объяснить существо дела только столкновением волн и к другим дьявольским штучкам. Он также обрушился на Г. Ф. Александрова, ведущего специалиста по Гегелю, за преувеличение значения западноевропейского вклада (т.е. имелся в виду прежде всего сам Гегель) в марксизм. Маркс и Энгельс стали чем-то вроде почетных русских, которым выпало несчастье родиться за границей.
Как видно из только что упомянутого обращения к ядерной физике, кампания по искоренению “космополитизма” распространилась не только на гуманитарные и общественные науки. Кое-какие естественно-научные дисциплины тоже подпали под разделение на “социалистические” и “буржуазные”, последние были преданы анафеме. Примером, когда дело зашло очень далеко и возымело самые разрушительные последствия, является биология, где вне закона оказалась “буржуазная псевдонаука” генетика, а на место ее явилась “прогрессивная” агробиология Трофима Лысенко и его учеников.
Лысенко возник из небытия еще задолго до войны. Его появление — результат той атмосферы “мифотворчества”, которая была характерна для конца двадцатых годов. Мы уже видели, как в экономике и планировании серьезные эмпирические исследования и математическое моделирование уступили место лозунгам и волевым решениям. Нечто похожее случилось и в аграрных науках, но процесс занял куда более продолжительное время. В этой области такие же захватывающие, но плохо обоснованные теории прежде всего привлекали внимание партийной верхушки и объявлялись великими истинами, поскольку обещали быстрое решение трудных проблем.
Лысенко заявил, что он может сократить период созревания и увеличить урожайность зерновых благодаря применению процесса, который он назвал “яровизацией”: выдерживание семян в пониженной температуре некоторое время перед посевом. Таким образом озимые, всегда уязвимые в суровом российском климате, могли, как утверждал Лысенко, высеваться весной и давать при этом неплохой урожай. Теоретическим обоснованием этой технологии была уверенность Лысенко в том, что наследственность обусловлена не только определенными генами, которые находятся в хромосомах внутри организма, но и состоянием всех его клеток, а это означает, что условия окружающей среды способны изменить наследственность. Все это было возрождением основательно скомпрометированных в научном отношении до-дарвиновских теорий.
Первые эксперименты Лысенко достигли некоторого успеха. Они были осуществлены в 1927–29 гг. на Украине и пришлись как раз кстати партийному руководству, обеспокоенному состоянием зерновых и искавшему некую панацею, которая должна была дополнить начинавшуюся коллективизацию. Они не хотели терять время на дальнейшие эксперименты, которые должны были бы подтвердить правильность теории. Как заявил один из сотрудников Лысенко, “когда Ленин устанавливал в России советскую власть, он не согласился оставить на Украине гетмана Скоропадского, чтобы посмотреть, чья власть лучше”. Без дальнейших церемоний яровизация была рекомендована для широкого применения, и при посредстве номенклатурной системы все больше и больше агрономов и партийных работников начали широко ее применять.
Однако академический мир, в основном, сопротивлялся Лысенко, считая его идеи сомнительными. Центром этого сопротивления стал Институт растениеводства. Директор этого института Н. И. Вавилов, большую часть своей сознательной жизни провел, собирая и изучая колоссальное разнообразие видов растений с целью перекрестного опыления для селекции высокопродуктивных и устойчивых к болезням гибридов. По иронии судьбы сам Вавилов был ярым социалистом. Он верил только в широкомасштабные эксперименты и считал, что только социалистическая система может гарантировать ресурсы для их проведения и организации. Его работы основывались на менделевской генетике, в научном отношении обоснованной куда лучше.
Но в 1938 г. Лысенко благодаря партийной системе назначений стал президентом Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук им. В. И. Ленина. Таким образом, он стал высшим судьей по всем этим вопросам. Он и его сотрудники усвоили сталинскую технику наклеивания ярлыков и принялись поносить Вавилова и других своих оппонентов как “вредителей”, “троцкистов” и “кулацких прихлебателей”. Это привело к вожделенным результатам — в 1940 г. Вавилов был арестован и обвинен в шпионаже в пользу Британии и саботаже в области сельского хозяйства. Позже он умер в лагере.
Атмосфера послевоенного времени и разразившаяся кампания по борьбе с “космополитизмом” дала идеальную возможность окончательно расправиться с оппонентами. Лысенко мог изобразить себя подлинным сыном народа, строящим истинно советскую — и русскую — агрономическую науку вопреки сопротивлению высокомерных иностранцев и педантичных академиков. На собрании ВАСХНИЛ в августе 1948 г. Лысенко укрепил свои позиции, протащив своих протеже в состав действительных членов академии. Последовало прямое осуждение менделевской генетики. Она была заменена доктриной самого Лысенко, которую он, воспользовавшись именем старого русского ученого, назвал мичуринским учением. В своем докладе на сессии ВАСХНИЛ Лысенко специально разделил науки на “буржуазные” и “социалистические”: “Вейсманизм-менделизм-морганизм является антинародным, псевдонаучным и вредным течением современной биологии. Он разоружает практику и учит преклонению передвечными законами природы, бесцельному поиску скрытых сокровищ и ожиданию случайных успехов”.
Таким образом, наука уступила волевым решениям. Доктрина “нет таких крепостей, которых не могли бы взять большевики” достигла максимальной степени своего влияния. Затем последовала широкомасштабная чистка среди биологов. Институты и лаборатории, занятые исследованиями в области генетики, закрывались. Переписывались университетские программы, уничтожались учебники, увольнялись преподаватели. На партийном собрании известный генетик И. А. Раппопорт не только отказался каяться, но еще и спросил: “Почему вы думаете, что товарищ Молотов разбирается в генетике лучше, чем я?” Его вышвырнули и с работы, и из партии. А портреты Лысенко вывешивались в исследовательских институтах, в широкую продажу поступили его бюсты и значки с его изображением, и в репертуаре Государственного хора появился гимн в его честь.
В результате полностью разгромленными оказались генетика, а также большие разделы ботаники, зоологии и агрономии. Целое поколение ученых, работавших в этих областях, было парализовано. Они разбрелись по дорогам страны компанией “босоногих ученых”, которым и продать-то было нечего.
Последние годы жизни Сталина ознаменовались деградацией интеллектуальной и культурной жизни СССР. И марксизм, и русский национализм порождали жесткое, примитивное и параноидальное мировоззрение, ставшее обязательным для любого деятеля культуры или науки, да и вообще для всех, кто хотел опубликовать свои работы. Тем не менее, как и всякая паранойя, оно имело свое внутреннее содержание и собственную, совершенно неотразимую логику. Двойственность этого мировоззрения была осознана романистом Василием Аксеновым, который десятью годами позже в своих произведениях восстал против него. В полуавтобиографическом романе “Ожог” он писал: “Даже если мы потешались над маленькой обезьянкой Зощенко и переписывали стихи Ахматовой для своих девушек, тем больше — да, тем больше — мы верили в то, что мир Жданова нормален, а мир Зощенко уродлив, болезнен и позорен”.
Высокая политика послевоенных лет была плотно окутана покровом тайны, и нечего даже претендовать на то, что в эту проблему удастся внести ясность. Даже исчерпывающие “кремленологические” исследования не много преуспели в том, чтобы разогнать дымную завесу официальной секретности и создать действительно надежную версию той борьбы за власть, которая разворачивалась за страницами “Правды”.
Кажется очевидным, что в первые послевоенные годы наиболее влиятельной фигурой после самого Сталина был Жданов. Именно его влияние ассоциируется обычно с возрождением власти партии. Но в августе 1948 г. он внезапно умер, после чего последовала дикая чистка в ленинградской партийной организации, с которой Жданов был тесно связан во время блокады. Самой известной ее жертвой был Вознесенский, который работал вместе со Ждановым в Ленинграде перед тем, как стать председателем Госплана. Все ведущие партийные работники и государственные служащие Ленинграда и Ленинградской области были арестованы и казнены. То же случилось и с сотнями их подчиненных. Можно рискнуть предложить несколько объяснений причин проведения этой чистки. Сразу же после нее последовало исключение Югославии из Коминформа. Коминформ же, как было совершенно ясно, явился не свет исключительно в результате умственных усилий самого Жданова. Эта организация была создана для координации деятельности различных европейских коммунистических партий, в чем, совершенно очевидно, отнюдь не преуспела. Югославская делегация посетила Ленинград в 1947 г. и была потрясена стойкостью горожан. Одни из членов делегации, Милован Джилас, позже писал, что стойкость, с которой ленинградцы перенесли блокаду, “превосходит югославскую революцию и героизмом, и уж тем более массовыми жертвами”. Возникновение таких связей между Ленинградом и Югославией оказалось достаточным, чтобы возбудить подозрения у Сталина, поскольку он вообще с недоверием относился к характерному для ленинградцев esprit de corps и чувству независимости. Если судить по некоторым источникам, то вполне возможно, что после войны серьезно обсуждались планы превращения Ленинграда в столицу РСФСР и штаб-квартиру Российской Коммунистической партии (наподобие Украинской Коммунистической партии и т.д., но только гораздо большей по численности, чем партия любой союзной республики). Если учесть силу националистических настроений многих партийных кадров после войны, то следует допустить, что такие планы могли пользоваться популярностью. К тому же таким образом была бы выправлена затянувшаяся неправильность в структуре партии и всего Союза. Но не может быть никаких сомнений и в том, что в таком “возрожденном” виде Ленинград превратился бы в сильного соперника Москвы. Разбалансированность, не без помощи Сталина заложенная в советскую систему, могла теперь обратиться против него самого. Потому наиболее вероятным кажется, что Сталин начал сопротивляться попыткам осуществить подобные планы. Некоторые обстоятельства заставляют принять именно такую версию событий — дело в том, что одной из жертв чистки стал М. И. Родионов, который не имел к Ленинграду никакого отношения, но был в то время премьер-министром РСФСР.
Как бы то ни было, было сделано все возможное, чтобы перечеркнуть память о героизме, проявленном ленинградцами во время войны. Музей обороны Ленинграда был закрыт, его директор арестован, а архивы конфискованы. Планировавшаяся публикация блокадных материалов запрещена, а подшивки ленинградских газет военного времени заперты в библиотечные спецхраны.
Закат звезды Жданова (не имеет в данном случае значения, была его смерть естественной или нет) и разгром ленинградской партийной организации, по-видимому, означали явление на сцену двух фигур, которые с конца тридцатых годов все больше выдвигались на первый план. Это были глава тайной полиции Берия и Маленков, который, будучи секретарем ЦК по работе с кадрами, являлся именно тем человеком, кто отвечал за номенклатурную систему. Но все же это предположение нельзя считать абсолютно достоверным. Так, например, бериевская империя была поделена на две части: МГБ (Министерство государственной безопасности), которому подчинялась тайная полиция и ее вспомогательные службы, и МВД (Министерство внутренних дел), в чьем ведении находилась обычная полиция, гражданский правопорядок и трудовые лагеря. Сам Берия возглавлял МВД. Службой же безопасности руководили люди, которые, кажется, не были тесно связаны с ним, — до 1951 г. это был В. С. Абакумов, а позже — С. Д. Игнатьев. Последний даже провел чистку в Мингрелии, той части Грузии, где родился сам Берия.
Как мы уже имели возможность убедиться, чистки утратили повальный характер конца тридцатых годов и стали проводиться выборочно и спорадически. Нужды во всеобщем терроре уже не было: кошмарные воспоминания о тридцатых годах были и народе столь прочны, что достаточно было небольшой угрозы, и они вновь оживали во всей своей пугающей живости. Интеллектуалы, ставшие жертвами ждановских чисток, например, вовсе не были арестованы — что было бы неизбежно десятью годами ранее. Им было “позволено” влачить рабское существование, работая лаборантами и ночными сторожами.
Тем не менее многое свидетельствует в пользу предположения, что в конце своей жизни Сталин действительно готовил еще одну глобальную чистку. Руководящие кадры партии и государства состояли из людей, которые находились у власти уже около пятнадцати лет. Между ними сложились прочные личные связи и даже своего рода чувство взаимной солидарности. Таким образом, в будущем они могли стать препятствием для неограниченной сталинской власти. Возможно, Сталин решил, что пришло время заменить их более молодым поколением, которое — по меньшей мере первоначально, — было бы более управляемым.
В 1952 г., впервые после 1939 г., был собран полный съезд партии, девятнадцатый по счету. В некотором смысле он узаконил меры по упорядочению партийных дел, которые предпринимались с 1945 г. Одновременно его можно считать первым шагом по направлению к замышлявшейся Сталиным грандиозной чистке. Политбюро и Оргбюро были упразднены. Их заменил новый орган, Президиум, имевший в своем составе тридцать шесть человек. Десять членов старого Политбюро (без Андреева) были окружены относительно молодыми кадрами. Хрущев позднее по поводу этой реформы высказался в том смысле, что, смещая старых членов Политбюро и вводя в Президиум менее опытных людей, Сталин ставил себя в совершенно исключительное положение. Таким образом, по мнению Хрущева, можно предположить, что это было также подготовкой к уничтожению старых членов Политбюро.
Если Хрущев прав, то это объясняет события, последовавшие вслед за окончанием работы съезда. В январе 1953 г. было объявлено, что группа врачей (чьи фамилии в основном звучали по-еврейски) собиралась “уничтожить руководящие кадры СССР” при помощи медицинских средств. Обвинения, предъявленные врачам, очень напоминали практику 1936–39 гг. Это были вредительство, терроризм, шпионаж в пользу Америки. Служба безопасности упрекалась в “потере бдительности”, так что следующим кандидатом в арестанты вполне мог быть Берия, и один Бог знает, кто еще после него.
Чистка, однако, так и не началась. 5 марта 1953 г. скоропостижно умер Сталин. Зная о его планах по поводу ближайших соратников, нетрудно задаться вопросом: была ли эта смерть естественной? Ясного ответа не существует. С одной стороны, Сталин был стар и болен: несколькими годами ранее он перенес первый удар. С другой стороны, у сотрудников Сталина (если их можно назвать таковыми) было предостаточно причин для того, чтобы ускорить его конец. В течение нескольких месяцев, предшествовавших смерти Сталина, были уволены его личный секретарь Поскребышев, начальник охраны генерал Власик и личный психиатр доктор Виноградов. Последние двое были арестованы. Сталин пришел к выводу, что им нельзя больше верить. Его паранойя достигла той стадии, когда начала уже угрожать его собственной безопасности. Когда в ночь с 1 на 2 марта он испытал очередной удар, его дача была изолирована от внешнего мира войсками службы безопасности. Существовала прекрасная возможность лишить его медицинской помощи или даже сделать укол, который мог помочь ему отправиться на тот свет. Дочь Сталина Светлана рассказывала, что когда она видела отца в последний раз, его окружали “неизвестные врачи”.
Но это всего лишь предположения. Очевидно другое — после смерти Сталина его наследники сделали все для того, чтобы поставить службу безопасности под свой контроль и предотвратить дальнейшие чистки. Дело врачей было незамедлительно прекращено. Берия вновь объединил МВД и МТБ под своим руководством. Вследствие этого прочие вожди решили, что именно о и представляет теперь для них главную угрозу, и объединились против него. В июле на совместном заседании Президиума ЦК партии и Совета Министров, где присутствовали несколько. занимавших ключевые посты генералов (их участие в деле было особенно важным), Берия был арестован и обвинен в “антигосударственной и антипартийной деятельности”. Если верить Хрущеву, он был расстрелян на месте, дабы предотвратить все возможные попытки службы безопасности освободить его; другие источники сообщают, что его расстреляли в декабре по приговору тайного суда. Берия был казнен на основании обвинения в шпионаже “в пользу Великобритании”.
Таким-то образом чисто сталинские методы были использованы для того, чтобы уничтожить наиболее опасного из его наследников. После казни Берия оставшиеся в живых вожди постарались держать службу безопасности под коллективным контролем и предотвращать впредь чьи-либо попытки использовать ее в качестве личного оружия.
Советская политика после войны приобрела новое измерение. Речь идет о кондоминиуме стран, оказавшихся в зоне непосредственного советского влияния в Центральной и Восточной Европе. Группировка вскоре получила название “Советский блок”. Эти страны повысили влияние и положение Советского Союза, но вместе с тем стали полигоном, на котором были опробованы альтернативные модели социалистического развития — причем такие, которые далеко не всегда устраивали советских вождей. Таким образом, Советский блок и расширил возможности своих советских хозяев, и добавил им хлопот.
В 1944–45 гг. Красная Армия оккупировала Польшу, восточную и центральную Германию, Чехословакию, Венгрию, Румынию, Болгарию, а возглавлявшиеся коммунистами партизанские силы захватили власть в Албании и Югославии. В ходе международных конференций в Ялте и Потсдаме западные державы признали эти страны зоной советских интересов при условии, однако, что установившиеся там режимы должны быть “демократическими”. Вскоре выяснилось, что советский вариант интерпретации этого термина весьма отличен от западного.
Но вначале это вовсе не было очевидным. Было сколько угодно причин тому, что народы Восточной и Центральной Европы в 1945 г. приветствовали приход к власти левых правительств. Все эти страны — за исключением Чехословакии — пережили распад либеральной демократической системы, а равно и экономический кризис во время Великой депрессии. И в сельском хозяйстве, и в промышленности немецкая оккупация подорвала и разрушила традиционные связи. Более того, пережив ужасы немецкой оккупации, народы региона имели все основания приветствовать приход Красной Армии, причем даже там, где, как в Польше или Венгрии, были очень сильны антирусские настроения.
Таким образом, Сталин получил народную поддержку и мог приступать к созданию режимов, которые были бы дружественны ему и, по его собственному выражению, “надежны”. Он принял решение не действовать так, как это делалось перед войной в Прибалтике и Польше, — там осуществлялась прямая аннексия территорий и депортация враждебных ему элементов. Последнюю задачу в некоторых случаях за него уже выполнили немцы. Он пришел также к выводу, что для обеспечения безопасности Советского Союза в обозримом будущем необходимо сохранить союз с западными державами, и потому не хотел вызывать их раздражения столь очевидной и грубой демонстрацией силы.
Потому методы, применявшиеся Советами в Восточной и Центральной Европе, были во многом отличны от довоенных. Некоммунистические политические партии смогли сформироваться, и им позволено даже было до некоторой степени провести организационную работу. Коммунистам пришлось делить с ними власть в рамках коалиционных правительств. Затем наступила стадия, которую Хью Ситон-Уотсон назвал “фальшивой коалицией”. Используя политическую власть, коммунисты загнали либеральные и крестьянские партии в оппозицию и раскололи их при посредстве своих ставленников. Лидеры этих партий подвергались преследованиям или арестам, собрания и организации распускались. На этой стадии социал-демократов обычно заставляли слиться с коммунистами — в результате появились “Объединенные рабочие” партии (их названия в разных странах слегка варьировались), которые впоследствии становились единственными правящими партиями. Иногда они входили в коалицию с некоторыми вконец запуганными, существовавшими лишь номинально партиями в рамках “Народного фронта” (это словосочетание в разных странах также звучало немного по-разному). Все это освящалось референдумом или выборами, сопровождавшимися всеобъемлющим давлением со стороны полиции и отсутствием какой-либо серьезной оппозиции.
Темпы, с которыми одна фаза сменяла другую, в разных странах также были разные. В Польше, Румынии и Болгарии первая стадия заняла совсем немного времени. В Чехословакии она затянулась до февраля 1948 г. Чехословацкие коммунисты действительно располагали значительной поддержкой народа: на свободных выборах в мае 1948 г. они получили 38% голосов и большинство мест в Национальной Ассамблее. Это был единственный случай, когда марксистская партия получила в результате демократических парламентских выборов относительное большинство. Но даже в Чехословакии финальная стадия коммунистического переворота не могла обойтись без применения политической силы. Во всех этих странах присутствие Красной Армии и советников (обычно из НКВД) было решающим фактором послевоенного политического процесса. Весьма показательно, что в Югославии, которая освободилась от немецкой оккупации своими силами, события, как мы сейчас увидим, приняли совсем другой оборот.
Социальные и экономические реформы, проводившиеся новыми режимами, были очень похожи друг на друга. Промышленность национализировалась, и в некоторых случаях оборудование для ее реконструкции поставлялось из Советского Союза. Государственное планирование стало главным, и были приняты планы послевоенного восстановления народного хозяйства, составленные по образцу советских пятилеток. Все эти страны отвергли американский план помощи Маршалла и более тесно привязали свою экономику к Советскому Союзу, часто в угоду советским интересам. Зарплата рабочих в промышленности стала сдельной и более низкой, чем прежде, а профсоюзы централизованы и поставлены под контроль властей. Были приняты меры по усилению системы социального обеспечения, но ее благами в полной мере могли воспользоваться работники, продолжительное время трудившиеся на одном рабочем месте и соблюдавшие трудовую дисциплину.
Полностью была реформирована система образования. Все частные и религиозные школы были либо закрыты, либо включены в государственную систему учебных заведений. Особое значение придавалось теперь практическому и техническому образованию. В сфере гуманитарных и общественных дисциплин обязательным стало изучение марксизма-ленинизма-сталинизма, точно так же, как и в Советском Союзе. Власти, ответственные за прием в учебные заведения, подвергали дискриминации детей бывших привилегированных социальных классов, священнослужителей и т.д. Эти меры преследовали целью создание нового образованного класса, способного в дальнейшем взять на' себя руководство страной.
Обычно проводилась и радикальная земельная реформа. Земля экспроприировалась у собственников, причем так была уничтожена все еще сохранявшаяся аристократия. Освободившиеся земли были розданы мелким хозяйствам. Однако с самого начала они столкнулись с серьезными препятствиями. Во-первых, из-за трудностей с продовольствием крестьян принудительно заставляли продавать его государству по низким ценам. Затем, около 1949–50 гг., наиболее преуспевающие хозяева были обложены высокими налогами. Менее состоятельных принудительно загоняли в коллективные хозяйства. К моменту смерти Сталина в 1953 г. этот процесс еще не был завершен; тогда для стран Восточной Европы были несколько расширены дозволенные пределы поисков их “собственных путей к социализму”. Но в целом они повторили тот путь, что Советский Союз проделал в двадцатых годах. Однако в Восточной Европе процесс этот был сокращен во времени, а затем и вовсе оборван по причине смерти Сталина и последующих событий. Более того, поскольку эти перемены привнесены на их почву извне, часто вопреки национальным традициям и интересам, было ясно, что к середине пятидесятых годов здесь созреет достаточно конфликтная ситуация.
Поскольку после 1948 г. или около того степень контроля Советов над восточноевропейскими странами была достаточно высока, точка зрения, в соответствии с которой они являлись частями советской империи, была не лишена смысла. В наше время, если какая-либо страна становится частью империи, последняя сталкивается с проблемами, значительно превосходящими ценность приобретения. Прежде всего это верно в тех случаях, когда “колония” имеет более развитую экономику и более дифференцированную социальную структуру, чем метрополия. Она в таких случаях импортирует из колоний идеи, культуру и социальную структуру — если, конечно, не готова освободиться от этого влияния и управлять подчиненной нацией посредством грубой силы. Но именно это Советский Союз и не готов был сделать, особенно после смерти Сталина. Исключение составляли только моменты кризисов. На деле же, при Хрущеве и его преемниках было уже неправильно называть Восточный блок “империей”, поскольку страны, входящие в него, обладали ограниченным суверенитетом. Суть же дела состоит в том, что “братский союз” или “содружество” социалистических стран постоянно обменивались идеями и влияли на развитие друг друга.
Обычным следствием такого взаимовлияния было то, что страны Восточной и Центральной Европы опробовали кое-какие возможности, существовавшие в латентном виде в социалистической традиции. В самом Советском Союзе эти возможности были похоронены, поскольку страна развивалась по чрезвычайно авторитарной модели. В Восточной же и Центральной Европе некоторым из этих тенденций позволили развиться и с течением времени стать реальностями, другие же были уничтожены в зародыше, поскольку советское правительство было слишком обеспокоено возможностью их влияния на внутреннее советское развитие.
Самый радикальный из этих экспериментов начался еще до смерти Сталина — местом его проведения стала Югославия. Его могло бы и не быть, если бы эта страна, как и Албания, не изгнала бы немцев самостоятельно, лишь при минимальной советской помощи. Югославский лидер Тито был в восторге от Советского Союза и готов был преданно следовать его примеру, но все же своим положением он не был обязан непосредственно Советам. Руководимая им коммунистическая партия получила всенародную поддержку потому, что возглавила борьбу против немцев. В отличие от прочих восточноевропейских лидеров Тито не въехал в свою страну на броне советских танков и не зависел от помощи со стороны советников из НКВД. Потому он мог сопротивляться заключению некоторых договоренностей, которые и другие восточноевропейские лидеры находили наиболее неприятными. Он был, например, разгневан попытками Советов вербовать среди югославских граждан агентов НКВД — в Восточной Европе тогда это было обычным делом. Он сопротивлялся заключению односторонних торговых соглашений, которые создавали для Советского Союза исключительное положение в югославской экономике. Он рассердил Сталина также и тем, что слишком ускорял политическое и экономическое развитие страны, отказавшись заключить любую серьезную коалицию с “буржуазными” партиями, — что было бы целесообразным с точки зрения Сталина, — и незамедлительно приступив к выполнению чрезвычайно амбициозного пятилетнего плана развития промышленности. Как сообщает Джилас, который посещал Москву в составе нескольких югославских делегаций, Тито и его коллеги были к тому же потрясены и возмущены двойственностью и высокомерием политики с позиции силы, которая, как они поняли, была типична для отношений Советского Союза с союзниками и братскими коммунистическими партиями.
В конце концов Сталин потерял всякое терпение и исключил Югославию из Коминформа, организации, которая в то время была занята координацией политики правящих европейских коммунистических партий. Это поставило югославских руководителей перед лицом неожиданного и жестокого кризиса. Непредвиденное прекращение торговли с Советским Союзом и отзыв советников требовали решительного пересмотра планов индустриального развития. Новая изоляция страны на международной арене обязывала Тито усилить ее безопасность, искать новых союзников и заручиться максимальной политической поддержкой у народов Югославии.
Этот кризис поставил под вопрос все, что югославские лидеры считали уже доказанным, и по силе своей был сопоставим с тем, с которым Ленин столкнулся весной 1921 г. Но, в отличие от Ленина, Тито не просто предпринял временное отступление от социалистических целей. Отчасти под давлением своих политических советников он сделал нечто совсем иное — переосмыслил полностью, что должен представлять собой социализм на деле, и выработал совершенно новую философию социалистического развития. Весьма показательно, что в своей речи в югославской Национальной ассамблее в июне 1950 г., обосновывая свой новый подход к социализму, Тито использовал самую “вольнодумную” работу Ленина — “Государство и революция”. Тито отметил, насколько сильно политика Советского Союза отличается от принципов, которые были заложены в нее основателем советского государства. Диктатура пролетариата, — утверждал Тито, — не ослабела по мере развития социализма и ослабления классовой борьбы: напротив, советский аппарат насилия укрепился и стал еще более жестоким. Теперь он используется не против классовых врагов и внешней угрозы, но против союзников, сторонников и невинных граждан. Тито провозгласил, что Югославия пойдет к социализму “собственным путем”, руководствуясь истинно ленинскими принципами, передав, насколько это возможно, государственную власть трудящемуся народу.
Для того, чтобы описать, как это происходило в действительности, потребовалось бы специальное исследование. Но наиболее существенные отличия югославской модели социализма от советской можно сформулировать следующим образом:
1. Структура государства в гораздо большей степени соответствует истинному пониманию федерации. На низшем уровне всенародно избираемые Народные советы, позже переименованные в коммуны, контролируют все местные дела, включая промышленные предприятия, и влияют — в достаточно широко очерченных пределах — на политику капиталовложений и производственный план. Это очень напоминает то, что в России 1917 г. люди, поддерживавшие советы, считали своей целью.
2. Промышленные предприятия несут ответственность перед своими работниками. По закону от 2 июля 1950 г. все рабочие предприятия должны были тайным голосованием избирать Рабочий совет, ответственный за контроль над общим управлением предприятием и за назначение директоров, осуществляющих ежедневное управление предприятиями. По духу это близко к декрету большевиков о “рабочем контроле” от ноября 1917 г.
3. Сельское хозяйство является в основном частным или кооперативным, а не коллективным. С марта 1953 г. крестьянам было разрешено выходить из коллективных хозяйств, что многие и сделали, получив обратно свои участки земли. Что касается коллективных хозяйств, то так называемые “генеральные кооперативы” помогали своим членам кредитованием, машинами и оптовыми закупками. Они также консультировали по вопросам агрономии и маркетинга. Такая структура могла появиться в результате развития нэпа в том виде, в каком это предполагал Бухарин и даже Ленин в конце жизни.
4. Народы Югославии получили совершенно реальные права автономии и образовали собственные национальные республики, которые в области экономики, культуры, образования и социального обеспечения проводили вполне самостоятельную политику. Это как раз то, что многие ожидали от воплощения в жизнь большевистского лозунга о “национальном самоопределении”.
Неясным остается, до какой степени столь серьезные изменения советской модели развития затронули структуру и функции Югославской коммунистической партии. На своем шестом съезде в 1952 г. она сменила название на Союз коммунистов и провозгласила, что теперь ее задачи сводятся к осуществлению просветительской деятельности, а не власти. Ее руководящий орган, который теперь назывался не Политбюро, а Исполнительный комитет, был преобразован таким образом, что все народы Югославии получили в нем равное представительство. Заместитель Тито Эдуард Кардель говорил даже об “отмирании партии”, в то время как Джилас в своей книге “Новый класс” предостерегал, что появление в Советском Союзе нового “правящего класса” в виде коррумпированных рвущихся к власти политиков не было исторической случайностью. Любая партия, обладающая монополией на власть, вполне может породить самовоспроизводящуюся олигархию таких монополистов. Впоследствии книга Джиласа была в Югославии запрещена, а сам он оказался в тюрьме. Эти события как-то не очень убеждают в том, что “партия отмирала”. Возможно, причиной этого стала сама разболтанность реформированной политической системы, которая нуждалась в связующем растворе, способном все же ее скрепить. Естественно предположить, что в последние годы жизни Тито был больше всего озабочен именно этой проблемой. Но в любом случае маловероятно, что в Югославии система номенклатуры функционировала точно так же, как и в Советском Союзе, поскольку кандидаты, выдвинувшиеся в ходе выборов из народных масс, все же должны обладать кое-какими талантами, кроме амбициозности и почтительности по отношению к начальству.
Так Тито в 1948 г. бросил открытый вызов Сталину. Впервые после смерти Троцкого подлинный социалист, пользующийся народной поддержкой, нарушил монополию Сталина на марксистское наследие. Даже в самом Советском Союзе, вопреки усилиям цензуры, люди начали понимать, что могут быть альтернативные варианты интерпретации социалистического учения. Повсеместно в Восточной Европе воздействие этих событий было еще большим, и Сталин поторопился усилить контроль над ней, проведя серию чисток и показательных, в духе Вышинского, процессов. Обвиняемые должны были, помимо прочих преступлений, сознаваться в своей приверженности “титоизму”.
Ввиду более поздних событий, случившихся в Восточной Европе, совершенно закономерен будет вопрос, почему Сталин не вторгся в Югославию и не сокрушил Тито. Нельзя быть полностью уверенным в том, что на вопрос этот удастся найти исчерпывающий ответ, но все же можно предложить вниманию читателя два предположения. Еще в 1944 г., во время своих труднейших переговоров с Черчиллем, Сталин согласился, что Запад имеет в Югославии 50% влияния; исключение этой страны из Коминформа сделало ее статус двусмысленным. Тито, разумеется, обратился к Соединенным Штатам, чтобы получить оттуда то, в чем отказал ему Советский Союз. Следует также помнить, что в то время США обладали монополией на ядерное оружие — Сталин не мог не учитывать этот фактор. Во-вторых, Сталину было известно, что Тито не марионетка, почему и пользуется широкой народной поддержкой. Народ же Югославии привык воевать и стал настоящим специалистом по партизанской войне против иностранных оккупантов. Нет сомнения, что Красная Армия рано или поздно сломила бы это сопротивление, но лишь понеся значительные потери. К тому же в результате подобных действий международная репутация Советского Союза пострадала бы. Возможно, Сталин рассчитывал на внутренний заговор против Тито. Если так, то он просчитался: Тито пережил Сталина и остался живым свидетелем того, что можно построить иной вариант социализма. В будущем это должно было возыметь весьма серьезные последствия.
 ТЕЛЕГРАМ
ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник
Книжный Вестник Поиск книг
Поиск книг Любовные романы
Любовные романы Саморазвитие
Саморазвитие Детективы
Детективы Фантастика
Фантастика Классика
Классика ВКОНТАКТЕ
ВКОНТАКТЕ