ДОНЧО ЦОНЧЕВ
А Я ТУТ
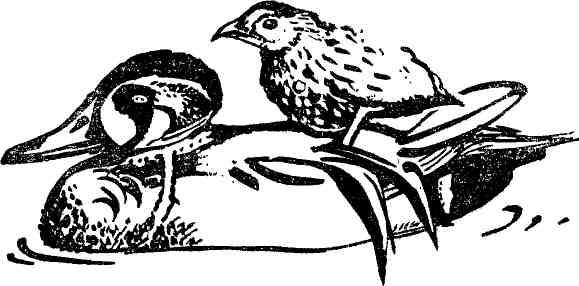
Перепел, жил в овсяной ниве за околицей села. По утрам и когда день клонился к вечеру, люди слышали, как он подает голос: «А я тут! А я тут!» Слышать-то слышали, но никто его не видел. Овес в то лето удался высокий, тучный, густые метелки служили надежным, прикрытием. А жить внизу, у самой земли, не так уж плохо, если ты мал, как перепел, и бегаешь среда стеблей привольно, как в лесу.
Услыхав неизменное «А я тут!» где-то поблизости, дети порой отправлялись на поиски перепела. Они, конечно же, вовсе не собирались стрелять в него из рогатки, — им хотелось на него взглянуть. Но стоило детворе выбежать в поле, как песня тут же смолкала, а через некоторое время звучала уже где-то поодаль — сбоку или сзади.
Детям, ни разу не видевшим перепела, пришло в голову окрестить его странным именем А-Я-Тут. Одни находили это имя прекрасным, другие возражали. Мол, такой малой птахе не пристало иметь имя, отчества и фамилию. Но ведь эта фамилия очень даже ему подходит: он и правда всегда тут, — не сдавались первые. Ведь у всех у нас — и больших, и маленьких — есть имя, отчество и фамилия. Выходит, имя перепела А, смеялись ребята, отчество — Я, а фамилия — Тут. Разве не так?
Как бы то ни было, все стали называть перепела А-Я-Тут. И даже со временем научились распознавать его голос. У молодых перепелов голоса были потоньше — и различить голос папаши А-Я-Тута в общем-то не составляло труда.
Отец-перепел прогуливался с детками по овсяному полю, присматривал за ними. Вдвоем с матерью они учили перепелят прятаться, искать себе пищу и летать. И все шло прекрасно до того дня на исходе лета, который начался с собачьего лая и ружейной стрельбы.
В то утро А-Я-Тут проснулся, охваченный каким-то странным беспокойством. Оглядевшись, он увидел, что трое или четверо из его шестнадцати детей куда-то улетели. Остальные отправились на поиски спелых зерен и букашек. Мать-перепелка подавала голос где-то поблизости.
Прогремел выстрел, и она умолкла. Со стороны села и от лесной опушки донесся собачий лай. Очутившись в одиночестве, А-Я-Тут прислушался. Хуже нет этой пальбы. Он пришел к такому выводу через горький опыт. Сердечко его сжалось от тревоги за остальных.
Вдруг он услышал шелест, и из зарослей овса, будто из-под земли, вынырнула собака. Она застыла шагах в двух от него с неподвижно вытянутым длинным хвостом.
Рыжая голова собаки казалась ужасной, еще ужаснее были горящие желтые глаза.
А-Я-Тут смотрел на собаку, та смотрела на него.
И вдруг перепел крутнулся на месте и шмыгнул в просвет между овсяными стеблями. Большой собаке проделать это было не так-то просто, она замешкалась и потеряла птицу из виду. Описав большой полукруг на своих прытких ногах, А-Я-Тут очутился позади собаки. Увидев ее силуэт за стеблями овса, услышав страшное хриплое дыхание, он припустился в обратном направлении.
Через минуту А-Я-Тут был уже вне опасности. И спять, где-то совсем рядом, грохнули два выстрела. После второго — А-Я-Тут услышал это ясно — что-то тяжело упало в овес. Этот звук тоже был ему известен, перепел понял, что одного из детей уже нет в живых. Притаившись в траве, он услышал громкий шелест. Собака огромными прыжками промчалась мимо. А минуту спустя А-Я-Тут увидел, как она несет в зубах молодого перепела. Собака отнесла добычу охотнику, и тот подвесил ее к поясу, с которого уже свисали на неожиданно длинных вытянутых шейках несколько молодых перепелов — тех, кого постигла горькая участь.
Целый день, не смолкая, гремели выстрелы. Под вечер А-Я-Тут и его домочадцы начали звать друг друга. С наступлением сумерек вся перепелиная семья собралась в урочном месте, и тут выяснилось, что она убавилась наполовину.
В следующее воскресенье все повторилось сначала, и А-Я-Тут с женой недосчитались еще троих детей.
Так от воскресенья к воскресенью под грохот выстрелов и прыжки страшилищ-собак семейство А-Я-Тута все больше редело, а в начале осени их осталось всего пятеро: сам А-Я-Тут, его верная подруга и трое сыновей.
Они отправились на то место, куда уже слетались другие перепела, — наступило время отлета. Их манили заморские жаркие страны.
Стая поднялась в воздух и полетела.
Пролетев над несколькими селами, на берегу большой реки она соединилась с другой перепелиной стаей. А-Я-Тут был в числе вожаков.
Спустя два дня к ним прибилась еще одна стая. На другое утро впереди показалось море.
Несколько сот перепелов расположились на побережье. Надо было отдохнуть — их ждал перелет через море.
Перед самым вылетом вдруг грянул выстрел и заряды дроби просвистели над головами. Поднялся переполох. Одни перепела попрятались в траву, другие взмыли в воздух. Прогремел еще один выстрел, за ним — еще. А-Я-Тут, следивший за тем, чтобы в стае царил порядок, остался на земле. Он не хотел сеять панику и был уверен, что лучше всего пересидеть в траве. После очередного выстрела один из его сыновей вскинулся и упал на спинку. Посучил лапками и затих. Из клюва потекла струйка крови.
А-Я-Тут бросился под ближний куст, но раздался грохот, свист дробинок над головой, что-то больно ужалило крылышко. Он успел шмыгнуть в траву, нахохлился и замер.
Пальба все не смолкала, но постепенно начала удаляться. Вечером А-Я-Тут покинул свое укрытие. Пропел условный сигнал и прислушался. В ответ подали голоса другие перепела.
Мало-помалу поредевшая стая собралась в одно место, чтобы провести ночь на берегу перед полетом над морем.
Трудной выдалась эта ночь для А-Я-Тута. Крылышко его ныло, ни жены, ни детей рядом не оказалось.
Наутро А-Я-Тут долго, настойчиво звал их своей песней. И только минуты за две до отлета нашлась верная подруга и двое уцелевших сыновей.
А-Я-Тут воспрянул духом. Он расправил крылышки, взмахнул ими и полетел. Остальные последовали за ним.
Раненое крыло побаливало, но А-Я-Тут летел не хуже других. Море под ними делалось все синее, берег быстро удалялся.
Перепелиная стая летела над морем уже несколько часов, когда А-Я-Тут вновь почувствовал острую боль в крыле. Он огляделся по сторонам — берег растаял вдали, нигде ни островка. А-Я-Тут начал отставать, его сменил новый вожак.
Стая все летела над морем. Боль в крыле росла, А-Я-Тут отставал все больше. Несмотря на героические усилия, вскоре он оказался в хвосте. Неужели это конец? Неужели ему суждена такая бесславная смерть? Ему, перепелу, что родился в Болгарии посреди овсяного поля и, проклюнувшись из яйца, увидел окрест дивно прекрасный мир, и первыми звуками, которые на радостях произнес он, были «А я тут»?
Стая, в которой все до одного перепела — его друзья и родичи, летит все дальше вперед. А он — позади, в самом хвосте. Внизу простирается море. Вот бултыхнется в воду — и прости-прощай теплая египетская зима. Прощай, родное овсяное поле, и ты, верная подруга, прощайте ивы, мои милые детушки с нашей любимой песней…
А-Я-Тут летел один, терзаемый болью. Он терял силы, но мужество не покидало его. Перепел не хотел думать о смерти, не верил в ее приход.
Он взглянул вниз, на воду. Море было безбрежное, сине-зеленое. Вдруг из воды вынырнула и задвигалась какая-то точка. За ней вторая, третья.
То были утки.
А-Я-Тут без малейшего колебания устремился к уткам и спустя минуту уже сидел на спине самой крупной из них. В глазах у него было темно, сердце, казалось, вот-вот выскочит из груди.
Утка глянула на него и ничего не сказала. Продолжала плыть дальше с грузом.
«Буду жить, буду жить!» — думал перепел, тяжело дыша. Он решил, что малость передохнет и полетит дальше.
Просидев на утиной спине минут десять, он почувствовал, что силы возвращаются к нему. Но вот другие утки начали нырять в воду. Нырнула и его хозяйка, разумеется, перед этим дав знак А-Я-Туту — не то бедняга мог бы утонуть. Перепел опять поднялся в воздух.
Стаи, конечно же, и след простыл. Но А-Я-Тут хорошо знал дорогу и мог лететь один.
Он летел и глядел по сторонам. Крыло опять начало ныть. Перепел быстро терял силы.
А-Я-Тут готов был впасть в отчаяние, когда слева появилась стая аистов. Поднявшись повыше, перепел облюбовал одного из них, летевшего впереди, и спикировал ему на спину.
Аист, даже не удостоив его взглядом, как ни в чем не бывало продолжал лететь дальше.
— Все! — сказал сам себе А-Я-Тут, глубоко вздохнув. — Теперь-то уж долечу.
Он крепче вцепился в аиста, стараясь не поцарапать ему спину коготками.
Прошло часа два с лишним. Все шло как нельзя лучше. И вдруг с высоты своего белого пухового сиденья А-Я-Тут заметил идущий впереди корабль. Когда аисты подлетели поближе, перепел увидал свою стаю: она расположилась на отдых на мачтах. А-Я-Тут очень обрадовался и, слетев с аистовой спины, стал кружить над кораблем. Но только он хотел присоединиться к своим сородичам, как вдруг понял, что они попали в ловушку. Матросы натянули рыбацкую сеть, и половина птиц запуталась в ней. Другая половина в паническом страхе взмыла вверх. А-Я-Тут присоединился к ней.
Отдохнувший на спине крупного аиста, А-Я-Тут старался не отставать от стаи. Когда же старая боль опять дала о себе знать, вдали показался остров.
Перепела взяли курс на остров и вскоре приземлились на скалистые утесы.
Солнце медленно опустилось в море, и тьма окутала остров. Было решено переночевать на нем, а утром продолжить путь. Выбившийся из сил А-Я-Тут спал крепко. А открыв глаза на заре, первым делом спел свою песенку. К его несказанной радости, верная подруга отозвалась. Она прибежала и стала ласково гладить его своим клювом. «О, уже близко, близко африканский берег!» — шептало пернатое сокровище А-Я-Тута, и оба были счастливы.
Но вот миновала зима. Обойдясь без ножниц и иголки, лес оделся в новый зеленый наряд. Перед окнами деревенских домов распустились огромные белые шары — зацвела дикая слива. Овес быстро шел в рост, торопился выкинуть метелки с зерном.
В один из дней, когда дети играли на лужайке, из овсяной нивы донеслось:
— А я тут! А я тут!
Дети мигом прекратили игру, притихли, вслушиваясь. А потом, как всегда, кинулись на поиски своего приятеля. И — как всегда — вернулись ни с чем. Перепел прятался в траве и каждый раз подавал голос где-то за их спиной.
Жизнь себе текла, и незаметно подошла пора стрельбы из ружей и лая собак. Как-то в воскресное утро, рождение которого было возвещено громкой пальбой, один охотник направился на овсяное поле.
Зайдя в овес, он остановился, прислушался и стал ждать. После множества злоключений перепелов осталось раз-два и обчелся. Их песня уже не оглашала поля как к былые годы. Целых два часа простоял охотник посреди овсяной нивы в ожидании. Наконец где-то слева от него послышалось:
— А я тут! А я тут! А я тут!
Охотник крепче сжал в руках двустволку и побежал в ту сторону.
А-Я-Тут услышал его шаги и затаился.
Охотник долго бродил по овсяному полю, но А-Я-Тут как сквозь землю провалился. А когда тот стал ругаться, зарекаясь, что пусть даже один-единственный перепел прячется в овсе, он его все равно убьет, убьет как пить дать, из кустарника, росшего между лесом и тучными овсами, донеслось:
— А ты глуп! А ты глуп! А ты глуп!
Перевод В. Поляновой.
ПЕТУХ

История эта начинается с того, без чего ей никогда бы и не случиться, — с холмистой зеленой земли с понатыканными в нее, словно свечи, дубами. Дубами, дубками, дубочками. Дерево одно, а называй как хочешь. Понатыканы деревья — точно божьи памятники. И земля одна, а слов для нее не счесть.
Холмы, поросшие травой, спускались к реке (спускаются сейчас, будут спускаться вовеки), белая полоска воды очерчивала их границу. На одном из них стоял дом. Деревья вокруг — те самые дубы, дубки, дубочки — давали тень и желуди, в развилках ветвей копили на зиму лиственный корм.
У дома не было ни двора, ни ограды, единственным его соседом было небо. Дождем и травой дарило оно овец, солнечным светом — пернатую живность с ее песнями. Хозяева молились ему молча, измученные, но не униженные сражением с землей. Небо щадило их — из сражения они всегда выходили победителями.
Самым многочисленным, вечным, кишащим всяческими историями было куриное общество. Куры, в отличие от овец, не отлучались от дома даже ненадолго. Они всегда толклись здесь, расхаживали, рыли, неслись и клевали, и напоследок коротко кудахтали на колоде. Смягчали — пестротой и шумом — первозданную тишину гор, придавая ей чем самым некий смысл.
Самыми важными в пернатой стае были, разумеется, петухи. Белые, пестрые, красные. Мелкие, огромные, средние. Они проворно делали свое дело, иногда выдирали друг у друга перья, хрипли с годами; последнее «хрясь!» произносил топор.
Одному из них удалось дожить до старости — хозяйка питала к нему слабость. Всеобщий родственник, живая история всего своего окружения, он ходил медленно, ложился поздно и вставал рано. В тихие солнечные дни любил поваляться на навозной куче.
Он был, разумеется, не так красив, как юнцы. Не так силен, как зрелые мужи. Перья его потеряли блеск. Поступь не выдавала больше лихих намерений. Даже шея с годами утратила свой изгиб. Порой старый петух напоминал дурно сделанную игрушку: перья уныло топорщатся, ноги раскорякой, сизый гребень поник. И глаз не сверкал у него, как у других. И бегал он по-стариковски. А в те мгновения, когда он должен был — хоть ты тресни — быть мужчиной и вшептать свое имя в яйцо, он бывал неуклюж и медлителен. Не то что раньше — огненный, стремительный, наглый. Теперь его скорее можно было назвать созерцателем…
Они не понимали всего этого — благодушные дамы-несушки, или как раз это им и нравилось. Они не убегали от него. Не отказывали. Держались так, как держались в свое время их бабушки. И (единственное, быть может, преимущество его возраста) петушиный закон ревности на него не распространялся. Он мог — один из всех — медленно выпустить крыле, спокойно, со вкусом вздыбить перья и описать вокруг избранницы священный полукруг, не думая о том, что на него вдруг налетит другой петух, разгневанный и бесцеремонный.
Порой старик удивлялся — откуда такое почтение? Те были сильнее, чем он. Они предавались любви много чаще, чем он. Клювы у них были каменные, цвета воска, когти и взгляды — орлиные. Они покачивали раздутыми зобами, шпоры и манеры у них были точно у крестоносцев. И, ах какие кровавые, мясистые гребни дрожали в решающий миг электрической дрожью — будто короны сказочных драконов…
Конечно, он знал о них то, чего они никак не могли бы знать о нем. Он был когда-то молод. Они еще не были старыми. И он словно бы прощал им их превосходство. Будто наслаждался своей тоской — насколько это было возможно. Смиренно ложился на навозную кучу, с которой возвещал о стольких днях и годах, расстилал свои перья в тепле, которое шло и сверху и снизу, вытягивал ноги, раскидывал крылья и рассеянным круглым глазом взирал на мир. На петухов и кур, поляну и небо. Сражения, любовь, пищу, врагов. На ночи, солнце, зимы. Бешеное, неудержимое, раздирающее глотку «кукареку», извергающееся, точно лава. Старик смотрел и отдыхал. Зелень травы, колода. Влажные глаза и сладостный голос хозяйки. Пестрая юбка вокруг ее стана так похожа на курицу. Ее рука — вкусная и щедрая, словно ток после молотьбы. Белые яйца в руке, тоненькое попискиванье пушистых желтых шариков. Все тех же пушистых шариков — вечных, но каждый раз неожиданных и смешных.
Что значит быть петухом?
Что значит быть?
Старик засыпал на навозной куче, видел во сне свою молодость, зерна, хозяйку (превратившуюся в своей пестрой юбке в настоящую курочку), кукарекал хрипло, басовито и блаженно, вставал и продолжал жить.
Вот этого-то и не знали юнцы — что он живет. Крупные, сильные, молодцеватые, распаленные спорами, страстями и желаниями, они воспринимали мир как зеркало. И существовали в нем лишь они — раскрасавцы. И то, что доступно ногам и клюву. Клюешь себе и расхаживаешь возле дома. Находишь червяка и сообщаешь: «Тут-тут-тут-тут!» Или: «К-р-р-р-р!» — когда тень ястреба вдруг скользнет по траве. Вот мир и вот жизнь. Что еще скажешь о жизни? Юнцы набивали зобы, взглядывали одним глазом в небо, топтали кур, чтоб оставить на яйце свою подпись. И забирались в курятник спать. Надежно укрыты: от хорька и лисицы, они расслабленно дремали в ожидании следующего рассвета.
Так и текла жизнь в курином мире близ одинокого дома. И кончилась бы она в ночь чрезвычайного происшествия, если бы не…
Но начнем с того, с чего все началось.
Было полнолуние, ясное небо — в лунном свете белели холмы. Свет проникал и в курятник, день и ночь разделял его пополам. Рассевшись на перекладинах и жердочках, петухи и куры дремали или спали, и никто не учуял появления полоза. Он просочился в щель как тень и свернулся, подняв неподвижную голову. Яиц в гнездах, вопреки обыкновению, не было. Цыплята подросли и уже не попискивали в корзине с соломой, а сидели на насесте, вместе со старшими.
Полоз смотрел на них, с мучительной радостью припоминая их вкус. Язык его дрогнул. Голова поднялась еще выше. Которого? Или которых? Того, что поближе. Вот этого. Ну-ка открой глаза, взгляни на меня…
Змея все так же бесшумно продвинулась вперед и снова подняла голову. Голова была сплющенная и здоровенная, как у кошки. В пяди от цыпленка.
Полоз выжидал — сражение должно было начаться с боя глазами. Он бился так с детства, даже в самых невыгодных условиях. Днем, при ясном устрашающем свете, обвившись вокруг какого-нибудь куста. Птичка должна была взглянуть ему в глаза. Он ждал, слушал птичью песню. Когда нервы сдавали, он с легким свистом менял положение. Птичка оборачивалась, видела его глаза и умолкала. Замирала надолго, потом начинала дрожать. Коготки ее выпускали ветку, и комочек перьев безвольно шлепался на землю. Полоз открывал пасть…
Ну же, цыпленочек, взгляни на меня.
Тот по-прежнему спал. Полоз ждал. Он помнил сотни случаев, подобных этому. Запах курятины делался все резче, кончик хвоста его задергался.
Куренок так и не проснулся, полоз просто придвинулся еще ближе и куснул его в голову.
Жирный цыпленок, спавший, притулившись к соседу, умер не сразу. Он успел вскрикнуть, захлопал крыльями — остальные проснулись в ту же секунду. Они плохо видели, но луна светила ярко, да и полоз извивался весьма энергично, пока кудахтанье не затихло в его глотке.
Не прошло и минуты — кошачья голова поднялась снова. Соседний куренок взлетел и упал на двух других. Куры — взрослые и молоденькие — кудахтали, охваченные ужасом. «Что такое?! Что такое?!» — они дрожали, не в силах двинуться с места. «Тут, тут, тут! Тут, тут!» — отстукивали петушиные ноги, а перья опадали на глазах, словно намокли под дождем. «Не-е-ет!» — вскрикнул и затих еще один куренок.
Собака за стеной залаяла хрипло и сонно. «Чего зря шумите? Ни лисы, ни хорька нет, я первая бы учуяла. Чего ж вы раскудахтались посреди ночи? Ну и народ…» — рыкнула она напоследок и замолчала.
Спасения не было. Полоз понял, что для игры глазами условий нет, и продолжал нападать грубо и дерзко. Челюсти его сжали то, что сумели ухватить, новый крик затихал мучительно и долго.
Петухи подпрыгивали как безумные, наталкивались на стены и друг на друга, куры и молодняк тоже — ужас стер различие между их ролями в жизни. Не было ни гонора, ни рыцарства, ни детства. Исчезли мораль, чувство долга, мужская доблесть. Остались стук сердец, пересохшие глотки, встрепанные перья и обмороки. Полоз был сильнее всех.
И вот в разгар этой трагедии, когда куриное племя в муках и страхе отправлялась, к праотцам, один из петухов отчаянно закукарекал и сверху упал на змею. Вонзил в нее когти, сильно клюнул и отскочил. Он не был самым сильным из петухов. И, уж конечно, не был самым молодым.
Широко расставив ноги, устремив голову вперед, старик, залитый белым светом луны, смотрел полозу прямо в глаза. Раскинутые крылья отведены назад. Перья на шее встали дыбом.
Полоз оторопело замер, и петушиный клюв тут же настиг его. Шум в курятнике затих, все смотрели на то невероятное, что разворачивалось у них перед глазами. Цыплята и куры — сжавшись от безумного страха. Молодки — вытянув шеи, онемев, не веря. Красивые молодые петухи — распластавшись по углам от страха.
Один из ударов старика наконец угодил полозу в глаз. Тогда хвост змеи взвился, и страшная его сила сбила петуха с ног. Он три раза перевернулся в пыли и снова вскочил. Вонзился когтями, клюнул, но еще один удар полоза отшвырнул его к стене. Когда он поднимался, пасть змеи была от него в сантиметре. Петух из последних сил торкнулся в пролом в стене и оказался на дворе. Взбешенный полоз с проткнутым глазом ринулся за ним. Но когда голова его уже была снаружи, а тело еще в курятнике, петух снова клюнул его в глаз.
Полоз корчился, хлеща все вокруг, стараясь во что бы то ни стало достать петуха. Теперь это было труднее, потому что слева к нему навсегда подступил полный мрак. А беспощадный петух наскакивал именно с этой стороны. И пошло-поехало: петух бил клювом, полоз валил его с ног, противники кидались друг на друга, катались по траве и постепенно отдалялись от курятника.

Упав в очередной раз, петух не смог быстро вскочить, и полоз успел обвиться вокруг него. В следующую секунду несмотря на защиту перьев, кости его страшно затрещали. Змея обладала громадной силой. Из петушиного горла вырвался жалобный хрип, словно его мучил типун, ноги напружинились в агонии. Голова полоза метнулась, чтобы его прикончить.
И тут, собрав последние силы, в порыве смертного отчаяния петух клюнул полоза во второй глаз. Змеиные кольца разжались, хвост забился о землю. От одного из этих ударов нога обомлевшего петуха хрустнула, и больше он уже не мог на нее ступить. Хромая, падая, умирая, петух яростно и стремительно клевал своего врага, сам получал жестокие удары, драл полоза когтями…
В свирепом своем поединке противники так далеко откатились от курятника, что оцепеневшее пернатое племя перестало слышать звуки боя. «Как, как?» — подала наконец голос курица, все еще не веря, что осталась жива. «Как так?» — отозвался один из петухов, уставившись, точно загипнотизированный, на пролом в стене. Потом они долго молчали, потом забылись и заснули.
Через час в курятнике все было спокойно. Так, как и должно было быть. Ведь около этого дома, на зеленом этом холме, у этих деревьев цыплята, и куры, и петухи жили с незапамятных времен.
Еще через час рассвело. Пернатый народец, привыкший просыпаться с первыми лучами солнца, повалил из курятника, один из петухов забил крыльями. Любить, искать зерна, кукарекать. Нестись, кудахтать, закатывать глаза. Ревновать, изменять, охорашиваться. От пестроты оперенья слепит глаза. Что еще рассказать о жизни? А тот, другой, валялся в это время на куче навоза, похожий на дурно сделанную игрушку. Игрушку, место которой на свалке.
Лежал наш петух на навозной куче, ободранный и старый. Уродливый и жалкий, точно грязная тряпка. Совершенно неподвижный, кривой, сплющенный — под веками невидящие глаза.
Время шло, петух лежал, перезвон овечьих колокольцев давно затих в овраге. Тени дубов становились все короче, солнце мало-помалу сметало росу. Хозяйка открыла окно и запела.
Тогда потихоньку открылся сперва один глаз петуха, потом — другой. Он увидел поляну, небо, дубы — ветви их покачивались от голоса хозяйки. Увидел цыплят, кур, молодых петухов. Он слегка отвел крыло, встал и попытался привести в порядок перья. Только теперь он заметил полоза, вздрогнул и сказал предостерегающе: «Кр-р-р!» Но длинное страшное тело змеи не шевелилось. У глазных ее впадин роились ярко-зеленые мухи.
Петух постоял, потом заковылял по навозной куче. Копнул здоровой ногой, обнаружил что-то съедобное. «Тут, тут, тут!» — заговорило его мужское естество. Молодой петушок услышал и подбежал. Увидел червячка и склевал его. Вытер клюв о траву и отправился по своим делам.
Опьяненный голосом хозяйки, потрепанный годами и всем пережитым, почти недвижимый, старик долго следил за юнцом — на фоне зеленых холмов.
Потом он отвел от него свой круглый глаз и уставил его — в суету сует.
Перевод Н. Глен.
СОБАКА ШАРО

Никаких определенных занятий в этом городе у него не было. Он любил лежать на задворках ресторанной кухни. У черного входа в летний ресторан «Жаворонок» — это слово красовалось на вывеске спереди, хотя, разумеется, прочесть вывеску не способна ни одна собака. Зато вряд ли кто-либо из людей мог оценить по достоинству при помощи обоняния все изобилие запахов, витавших над прилегающим кварталом. Это тяжелое облако вздымалось вверх, как потревоженная стая, как мечта, его обрывки, разносимые ветром, рисовали в собачьем воображении картины бесчисленных лакомств, порождая надежду. Приходившие в ресторан люди садились за столики, не только не замечая всех этих восхитительных запахов, но вообще не видя ничего вокруг. Торопливо проглатывали все, что им подавалось, о чем-то говорили с озабоченными лицами, что-то пили (от их стаканов шел неприятный кислый запах), затем вставали и все куда-то спешили, словно были глухи и слепы к простым, истинным радостям жизни. Здесь, в городе, даже деревья совсем другие: листья их покрыты пылью, стволы — изранены, ветви задумчиво колышутся над широкими реками асфальта, по которым бесконечным потоком плывут рычащие автомобили.
Несмотря на резкую перемену обстановки, образа мыслей и способа пропитания, наступившую после переселения в город, самые важные дела в его собачьей жизни шли не так уж плохо. «Живу помаленьку», — сказал бы он, если бы умел говорить.
Единственное, чего ему недоставало, иногда до боли, — это общения с себе подобными. Не то чтобы их здесь не было. И в этом городе, как везде, водились собаки, они даже были представлены разными породами, бог знает как и зачем сюда попавшими. Но обстоятельства складывались так, что он не мог найти с ними общий язык. Сначала он думал, что они его просто боятся — такого большого, лохматого, и оттого сторонятся. Позднее, однако, решил, что в городе для этого существует какой-то секрет, которого он не знает. Так и шло время — пока он прикидывал, что это за секрет и как его открыть, другие себе жили припеваючи и в ус не дули.
Но разве можно кого-либо осуждать за то, что он живет в свое удовольствие? Пускай себе живет. Живи и ты.
Однажды (он по обыкновению дремал на задворках ресторана и видел все тот же сон), еще не продрав глаза спросонья, Шаро вскочил на ноги. Ноздри его трепетали. Нет, это был не сон, представители его племени и впрямь были где-то поблизости. И он, не раздумывая, потрусил туда, куда его вело обоняние, весь отдавшись охватившему его радостному нетерпению, безошибочно выбирая кратчайший путь. Вскоре он увидел их.
Там была целая компания.
На пустыре меж ворохами кровельного железа и сваленных в беспорядке бревен лежала сука. Фестиваль был в ее честь, она это хорошо знала и со счастливым видом грелась на солнышке. Ее поджарое туловище, покрытое гладкой коричневой блестящей шерстью, говорило о том, что она, вероятно, была полукровка — помесь гончей и сеттера. Безалаберность ее предков-горожан, их нежелание заботиться о чистоте породы наделили эту суку множеством противоречивых черт, она была красивая и избалованная, ленивая, но гибкая, как кошка, злая, и страстная…
Другие псы стояли или сидели вокруг. Время от времени кто нибудь из них безо всякого повода вытягивал шею и наклонял голову, словно намереваясь что-то сказать, — точь-в-точь как это делали люди. Это едва заметное движение переходило в дрожь, которая замирала где-то на кончике хвоста, и они снова застывали в прежней наэлектризованной неподвижности, будто боялись разбить некий таинственный тонкостенный стеклянный сосуд, который кто-то доверил им в первый и последний раз в жизни. Именно сейчас, сегодня, в этот единственный и бесконечный миг, ради которого они, собственно, и жили — добывали еду, сносили пинки, дрожали от холода долгими зимними ночами, поскуливали от голода, как завещали им неведомые отцы, а тем — их дикие предки, завещали в такой же краткий — жалкий и великий — миг безумного ожидания. Да, ради этого мгновенья они жили и терпели, и сейчас дрожали над хрупкими и невидимыми сосудами, боясь расплескать надежду, счастливые оттого, что чувствуют ее сумасшедшее кипение в крови. Каждый из этих псов глубоко верил, что красавица изберет его или, по крайней мере, неравнодушна именно к нему.
И в этой своей безрассудной, комично скрываемой настойчивости, готовые наивно поддаться самому неприкрытому обману, они походили на детей.
При виде этой безмолвной сцены, которую он оценил мгновенно и безошибочно, Шаро почувствовал, что все его существо готово завыть. Он осторожно прибавил шагу, уверенно ступая своими сильными неуклюжими лапами. Шавки (они всегда первыми схватывают суть вещей, вероятно в результате врожденной злобы и отпущенной в качестве компенсации интеллигентности) дали знать о его присутствии. Несколько претендентов на благосклонность красавицы выдавили из глоток сдавленное рычание, которое, казалось, не успев упасть, было поглощено спекшейся от зноя сухой землей. Сука встала и потянулась — она тоже увидела его. Они обнюхали друг друга, и он выразил свою радость несдержанным, но пока еще вполне приличным образом. Радость, достойную столь мучительного ожидания этой встречи, о которой он так долго мечтал. Словом, о каких приличиях может идти речь! Шаро гордо вскинул голову, и…
В эту секунду просвистела петля.
Он не услышал этого тонкою, короткого свиста, поскольку в ушах его звучал дикий зов предков и жалобный скулеж миллионов будущих Шаро, захотевших появиться на белый свет именно сейчас, сразу, непременно, а там — хоть трава не расти. Глаза не видели ничего другого, кроме гладкой коричневой спины подружки, и вдруг она исчезла… Это было ужасно…
Его соперники как сквозь землю провалились, словно их здесь никогда и не было. А проволочная петля все туже стягивала шею.
Шаро был очень крепкий деревенский пес — из пород пастушьих собак, но чем больше он рвался, тем глубже проволочная петля врезалась в горло. Его охватила невероятная ярость — законная ярость бессовестно обманутого, он бросился на обидчика, чтобы перегрызть ему горло, хотя никогда этого не делал и не предполагал, что такое возможно. Но из этого ничего не вышло. Петля была прикреплена к гибкому и прочному шесту, который не давал и шагу ступить. Боль стала невыносимой. Шаро повалился на землю полузадушенный и, хотя это было не в его характере, прекратил сопротивление.
— Ага! Наконец-то попался! — крикнул запыхавшийся цыган. — Шутка ли — добрых пять пар обуви выйдет!
— И даже больше, — тоном знатока заметил парнишка, его помощник, благоразумно стоя подальше от жертвы.
По тротуару в сторону новых жилых корпусов шла очень полная женщина. Она свернула с дороги и, направившись к ним, стала кричать на цыган тонким голосом: мол, кто им дает право мучить, животное, это хулиганство, она сейчас кликнет милиционера. Цыган объяснил, что у него есть разрешение и показал какую-то бумагу с печатью, но женщина оттолкнула его руку. Цыган в первую минуту опешил — он не видел, чтобы кто-нибудь так относился к документам, — но тут же нашелся и пробормотал: «Тетя, это же документ, выданный в горсовете…» Женщина сунула руку в сумку, вынула новенькую хрустящую трешку и протянула ее цыгану. Тот поднес ее к глазам, удивленно хмыкнул и вернул деньги женщине. Тогда она дала ему пятерку.
— Неси его за мной! Да гляди, не задуши совсем…
— Накинешь лев — понесу…
— Что?
Женщина прикусила губу и, искоса глянув на Шаро, беспомощно хрипевшего на земле, положила на протянутую ладонь цыгана еще один лев. Цыган подхватил пса и зашагал за женщиной. Шаро и сам бы мог идти, если бы петля не сжимала горло, но после того, что с ним случилось, он был просто сам не свой. Рыжие кошачьи глаза цыгана сверлили спину женщины. Обтягивавшее ее плотную фигуру синее платье очень шло к ее гладким белым ногам, и цыгану захотелось что-нибудь сказать по этому поводу, но он только широко растянул рот в усмешке, обнажив свои крепкие зубы, и подмигнул пареньку. Женщина услышала у себя за спиной его бормотанье: «Готово, тетя, будет по-твоему, только не кипятись. Ты, я вижу, женщина добрая. Незачем нам ругаться. Только скажи, и я аж в Драгалевцы потащу собачку… Слышь, ее Жучком кличут… Жучок, Жучок! Собачка что надо…»
Они дошли до новых корпусов, и женщина махнула рукой в сторону сарайчика, выкрашенного зеленой краской.
— Привяжи его там… вон, видишь, гвоздь…
— А где цепь?
Женщина, как солдат по команде «вольно», перенесла тяжесть тела на правую ногу, сумка в ее руке качнулась.
— Я… того… случайно захватил с собой цепь… Купил на рынке, целый лев отдал. Повезло тебе. Вот погляди, специально для того, чтоб держать на привязи собак…
Заполучив еще один лев, цыган высвободил пса из петли, накинул ему на шею с профессиональной ловкостью ржавую цепь, в двух-трех местах скрепленную обрывками проволоки. Когда наконец все было готово, и паренек прикидывал в уме, что пять левов за такого пса — не бог весть какая цена и что кличка Жучок никак ему не подходит, цыган вдруг отчего-то подскользнулся и изо всех сил пнул Шаро в бок. Пес взвизгнул и шарахнулся прочь, волоча за собой цепь. Цыган принялся ломать руки, схватился за голову, хлопнул себя ладонями по ляжкам и с криком: «Чтоб тебя!» припустил за псом. Пробежав с десяток шагов, он обернулся и махнул пареньку рукой, чтоб шел за ним. Скоро все стихло. Возле сарайчика перед новым корпусом стояла, как вкопанная, женщина с красивыми белыми ногами.
Шаро бежал долго. Сделав на всякий случай порядочный крюк, он возвратился на задворки летнего ресторана «Жаворонок». Наступил лапой на цепь и высвободил голову. Шея невыносимо ныла. Вид знакомого двора, столько времени заменявшего ему домашний очаг, показался ему ненавистным, таящим тревогу, В сущности, привлекательными здесь были только сны. Шаро впервые пожалел о сделанном им решительном шаге в жизни. Кто его заманил в большой город? Отчего бы ему не… Но он отложил серьезные размышления на потом — уж очень болела шея. Лег на землю и посмотрел в сторону бака с отходами. Воспоминание о красивой суке больно отдалось где-то в глубине позвоночника. Но он даже не шевельнулся. Если бы вчера ему сказали, что он способен пренебречь едой и любовью, он бы не поверил, хоть убейте. Видно, живя в городе, он уподобился его обитателям, которые не знают воодушевления и вечно куда-то спешат. Может, им в свое время тоже кто-то нанес тяжкую обиду? Шаро вспомнил, как его, он тогда был еще щенком, поразила человеческая шея — такая тонкая, белая, незащищенная. Что за петля стягивала ее? Чем больше он об этом думал, тем меньше хотелось ему подойти к баку, у него пропала охота идти куда бы то ни было. Он лег, вытянув лапы и опустив на них морду. Налившиеся кровью глаза с немым вопросом уставились в пространство, зрачки, остекленев, глядели в никуда, в сгущающийся над городом мрак.
Эта трудная ночь, исполненная сладких воспоминаний, грез, грубо рассеченных железной проволокой, исколотых взглядом рыжих глаз цыгана, тянулась долго. Миновало еще несколько таких ночей, их сменили солнечные дни. Удачная догадка — переселиться поближе к свинарнику военной казармы — обеспечила ему сытую жизнь. Разве мог он предположить, что именно с этой обеспеченной сытостью для него начнутся самые тяжелые времена?
Странно, Шаро хорошо ел, спал, бегал, принюхиваясь и исправно поднимая заднюю лапу возле фонарных столбов и залатанных цементом стволов каштанов, но несмотря на это, чувствовал себя несчастным. Он все больше сторонился городских людей. Они ничуть не походили на знакомых ему с детства крестьян — с теми у него сразу устанавливались ясные взаимоотношения товарищества или, по крайней мере, невмешательства. Здесь же спокойное безразличие обеих сторон, когда можно было лежать, не заботясь ни о чем, было невозможно. Здесь все куда-то спешили, ко всему присматривались с подозрением или с каким-то недобрым интересом.
Возможно, он не додумался бы до этого, если бы не цыган, который опять было попытался накинуть ему на шею железное ожерелье, — из-за него и пришлось покинуть задворки «Жаворонка». На новом месте в него швыряли камнями мальчишки. Случайно проходившие мимо женщины с притворно дружелюбным видом строили весьма сомнительные гримасы. Словом, опасности подстерегали его со всех сторон.
Он отлеживался на пустырях, случайно или временно покинутых рычащими машинами, которые рыли глубокие ямы и подвозили груды цемента и кирпича. Он с интересом присматривался к этим машинам, к тому, как они захватывают железными челюстями груз, чтобы медленно и осторожно выплюнуть его в другом месте, — так суки перетаскивают своих щенят… ах, да, суки… как она тогда потянулась при виде его… ноздри его начинали трепетать, казалось, он чуял ее горячее дыхание. И… — проволока! Проклятая проволока! Он уже больше ни о чем не мог думать спокойно. При случайном приближении любого человека ему мерещилась проволочная петля. Он возненавидел всех городских обитателей, даже своих собратьев. Разве они любили его? Им что! У каждого из них есть свой угол, они получают законный кусок хлеба — прямо из рук благосклонного хозяина, — виляя хвостом в знак верности и готовности получить трепку; они всегда знают, где должно случиться что-нибудь интересное, умеют устраиваться, словом, они себе живут. Да, он их ненавидел. С радостью удушил бы любого.
Совсем другое дело там, откуда он пришел. Там у него были настоящие други-приятели — такие же огромные и лохматые, как он сам. Они бегали наперегонки, барахтались на лугу, и каждый был готов прийти на помощь по первому зову. А еще там была Розка… Он видел во сне ее морду с влажным носом, ее серо-карие глаза. Верно, шерсть ее была в репьях, но все равно она была милей и пригожей всех кривоногих городских шавок, вместе взятых.
Розка!
Или, на худой конец, любая другая — такая, как она. Неужели ему больше не придется побегать с ней по лужайкам? Он нарочно отставал, вдыхая широко раздутыми ноздрями запах овечьего помета… А сладостный звон колокольцев, тот далекий звон, а скошенные луга… А каких смешных щенков она приносила! Рябеньких, похожих на него. Неизменно рябеньких. Он учил их поднимать заднюю лапу возле деревьев, они еще не знали, что к чему и для чего существует на этом свете, пробовали, дурачки этакие, есть чернильные орешки, пытались ухватить зубами кончик собственного хвоста. Смех да и только! Какое счастье об этом вспоминать!
В одну из ночей Шаро внезапно вскочил и уставился в темноту, словно хотел увидеть наяву святые для него видения, потом отряхнулся — сильно, так что послышалось «тррруп», и тут же отправился в путь.
Обратная дорога, казалось, была усыпана раскаленными углями — так спешил Шаро. Он бежал, высунув от усталости язык, но мысль, что он скоро будет на старом месте, заживет счастливо, беззаботно, придавала ему сил. Он остановился всего несколько раз, чтобы оглядеться, перевести дух. Однажды он свернул в овраг. Вода, бившая ключом на дне, пахла землей и корневищами. Он с жадностью напился и, не снижая темпа, побежал дальше. Рассвело, потом миновал полдень, стало смеркаться. Добежав до околицы одного села, решил отдохнуть.
Лег на лужайке, тяжело и шумно дыша. Пахло дымом — где-то вдали жгли листья. Этот запах, как волшебная сказка, навевал сон. Мимо прогрохотала телега, сидевшие в ней люди бросили чем-то в него. Несмотря на усталость и томную расслабленность, навеянную запахом дыма, он испуганно отскочил в сторону. Потом осторожно поворотился назад и с удивлением обнаружил кусок черствого хлеба. Поглядел вслед телеге — ему показалось, что колеса ее смеются над ним. Подняв хлеб зубами, отошел в сторонку, к пруду, где плавало множество горластых гусей. Там он прилег и, не торопясь, долго грыз краюшку, придерживая ее передними лапами.
Вдали показалась ватага ребятишек. Они вели осла. Шаро с виноватым видом встал и, неся хлеб в зубах, разумно отошел в сторонку, но дети не обратили на него внимания. Он почувствовал, как хвост его сам собой опустился, повис, и рассердился на себя. Оставил недоеденную краюшку, задрал хвост и долго махал им, пока не удостоверился, что держит его так, как положено псу, а не волку. Медленное виляние тяжелым лохматым хвостом доставило ему большее удовольствие, чем еда, и он снова ощутил сладостный далекий запах дыма.
Доев хлеб, он не спеша направился к источнику. Полакал воды из длинного каменного корыта, огляделся и решил продолжить свой путь. Дорога была вся в глубоких рытвинах, оставленных гусеницами тяжелого трактора, и он побежал по гладкой тропке, что тянулась у обочины дороги. Две женщины с закинутыми на плечо мотыгами прошли совсем рядом, чему-то громко смеясь. Они сняли с головы платки и принялись ими обмахиваться. Отгоняли мух, а может, просто дурачились. Та, что тараторила, время от времени прикрывая рот ладонью, после чего обе громко прыскали, сунула руку в узелок, висевший на рукояти мотыги, и крикнула:
— На, Шаро, на!
Он вздрогнул и замер. Сколько времени никто не окликал его так, он уже почти забыл свою кличку. Ему захотелось, чтобы женщина позвала его снова.
— На, Шаро, на!
Женщина бросила ломоть хлеба, но Шаро не спешил выказывать к нему интерес. Махнул хвостом и, два-три раза поведя шеей, склонил голову к земле. Так он выражал чувство радости, охватившее его при звуках своего имени.
— Ни дать ни взять мой пентюх! — сказала женщина. — Тоже горазд ластиться… Ну чего же ты, ешь! Палки, что ли, захотел?
Женщины прошли мимо, а Шаро съел хлеб. Он был мягкий, пах луком и брынзой.
Солнце уже стояло низко над горизонтом. По дороге, поднимая облако пыли, брело стадо буйволов. Пастух свернул с обочины, щелкнул кнутом, протяжно и гортанно крикнул. Неповоротливые животные равнодушно сошли с дороги, сбившись в кучу и задевая друг друга черными, раздувшимися после пастьбы боками. Некоторые из них задирали вверх рога, видно, намеревались почесать себе загривок, а может, им, наглядевшимся за день на зеленые травы, хотелось посмотреть на небо. (Впрочем, разве буйволы глядят на небо?) С губ их падали клочья белой пены. Где-то вдалеке кто-то затянул песню, мало заботясь о словах и мелодии, просто человеку хотелось выразить в песне свое настроение. Гуси на пруду нестройно загоготали — небось, тоже хотели выказать какие-то чувства, вышли на травянистый берег и, вытянув шеи, заковыляли к длинному строению у околицы села. Самые нетерпеливые хлопали крыльями, пытаясь взлететь.
Шаро поглядел в сторону медно-красного горизонта. Туда, где стлался желтоватый туман, откуда долетала песня, где рассказывал свои сказки горьковатый дым. Потом перевел взгляд на черных буйволов, поглядел вослед серым гусям. Пасть его раскрылась, язык сам собой свесился набок. На мгновенье он позабыл, куда бежал. Сел, неловко почесал ухо задней лапой и тут же позабыл, зачем сел. Он тихонько заскулил, встал, потянулся, зевнул, клацнул зубами и неспешно затрусил по обочине.
Он бежал без всякой цели, ни о чем не думая. Ему было хорошо.
Перевод М. Качауновой.
 ТЕЛЕГРАМ
ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник
Книжный Вестник Поиск книг
Поиск книг Любовные романы
Любовные романы Саморазвитие
Саморазвитие Детективы
Детективы Фантастика
Фантастика Классика
Классика ВКОНТАКТЕ
ВКОНТАКТЕ