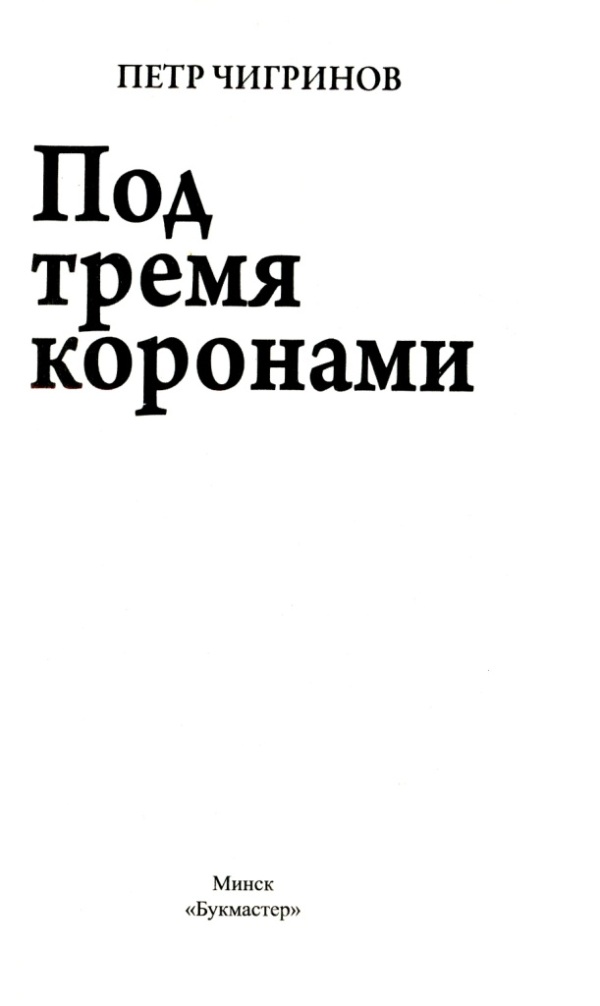
ПЕТР ЧИГРИНОВ Под тремя коронами
Посвящается памяти моего сына суворовца, курсанта Ленинградского высшего общевойскового командного училища Чигринова Андрея
I
Весна в 1492 г. от Рождества Христова в Великом княжестве Литовском наступила вовремя. Неторопливо сошел с полей снег, затем растаял в лесах, а на полянах обильно зацвели голубые и белые ветреницы. Реки незаметно вошли в свои берега, солнце подсушило дороги. Как и тысячи лет перед этим, весна постепенно катилась в лето.
Но людям было неспокойно: волнуя и будоража всех, по городам и весям широко расходился слух о грядущем конце света. И не мудрено: истекала седьмая тысяча лет от сотворения мира по византийскому летоисчислению, принятому у православных. В соответствии с Откровением Иоанна Богослова все ждали Апокалипсиса — страшного Божьего суда и конца света, когда на грешное человечество должны обрушиться всемирные катастрофы. Когда вострубит третий Ангел и на землю упадет большая звезда Полынь, а на грешников выльется семь чаш Божьего гнева. Страх перед невидимыми грядущими событиями подогревали пронесшиеся по европейским странам эпидемии чумы, унесшие сотни тысяч человеческих жизней. Это усиливало тревожные настроения людей. Повсеместно стал процветать культ смерти, люди даже учились умирать. На городских площадях и в храмах давались представления, где танцы смерти совершали скелеты, а на полотнах художников изображались трупы, пожираемые червями. Триумф смерти заполнял сознание как верующих, так и безбожников, считавших, что умножение зла на земле действительно может привести к концу света. Те, кто не до конца верил пророчествам Нового завета, полагали, что человек должен чего-то бояться, так как страх помогает стать лучше…
Людская молва, слепое суеверие подхватывали страшные опасения, покоряя сердца и воображение людей. Разгоревшаяся шире обычного заря, ярко скатившаяся с неба звездочка или разразившийся прямо над головой гром не просто удивляли людей как раньше, а ужасали, вселяли страх, апатию и равнодушие, убеждали, что все в этом мире ненадежно и непрочно, близится к своему концу. Тревожная неопределенность побуждала людей готовить убежища-схроны, запасаться продуктами и водой. Богатые и просто зажиточные для собственного спасения сооружали свои храмы. В результате многие празднолюбцы, не подготовленные к великому пастырскому предназначению, становились служителями-проповедниками, совращали народ не только невежеством, но и своей неправедной жизнью. Вместе с обретавшимися возле церквей нищими, каликами, бившимися о землю и катавшимися в пыли юродивыми, они разносили тревожные слухи…
То, что в соответствии с пророчеством после страшного суда и конца света наступит тысячелетнее счастье, никто не хотел брать во внимание. Как и разъяснения православных священников, что «блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят во время второго пришествия Христа, что как праведники не спасутся, так и грешники не погибнут…» Страшась светопреставления, многие стремились уединиться в недоступном месте и даже лишали себя жизни. Другие готовы были искать спасения в неведанных краях. Священник из-под Витебска отец Акинфий, один из тех добрейших и наивно-романтических людей, которых много было на Руси и которые если уж поверят в какую-либо истину, то отдаются ей всей душой, часто говорил своим прихожанам, что спасение можно найти, если идти встречь солнцу. И что если держаться ближе к полуночным странам, то там, далеко на востоке, за Каменным поясом, находится богом благословенная земля, изобильная и полная укромных мест, где можно найти убежище от любого лихолетья и даже от светопреставления. Люди в той земле могут легко и непосредственно общаться с самим Господом Богом, который является к ним с небес, чтобы оказать верующим особое внимание и благословение.
И вот в назначенный день, когда уже отошли бурные дни с грозами, ветром и проливными дождями, а над землей стала стлаться золотистая летняя дымка, когда июль с его васильками, ромашками и уже пожелтевшими хлебами незаметно сменялся тихим, задумчивым августом, когда в садах наливались яблоки, а скворцы и ласточки сбивались в стаи для отлета в теплые страны, прихожане с детьми и стариками во главе с Акинфием, окруженным юродивыми-вещунами, которые, посыпая свои головы песком и пеплом, хватали людей за руки и одежды и тянули их встречь солнцу, бормоча при этом непонятные, а потому и убедительные слова, двинулись в путь. Все, что было нажито праведным трудом, оставлено, взято самое необходимое. И очень скоро странники затерялись в густых лесах, расположенных на великой восточной равнине. Посланный витебским наместником отряд стражников, чтобы вернуть беглецов назад, возвратился ни с чем.
В эту весну король польский и великий князь литовский Казимир со своим малым двором задержался в Вильно дольше обычного: в столице Великого княжества он всегда чувствовал себя лучше, чем в любом другом месте и даже в Кракове. И не мудрено: княжество было родиной его отца Ягайло и матери Софьи Гольшанской. Здесь зародилась у них так удивившая многих любовь семидесятилетнего короля и семнадцатилетней Софьи. Их второй сын Казимир был высокого роста, хорошо сложен, с сильными плечами и широкой грудью. Князь и в свои шестьдесят пять лет выглядел не старым, сильным мужчиной. Его не портили маленькие живые глаза, выгнутый, с горбинкой нос, как и мрачность лица, часто выражавшая недовольство всем и вся. Как настоящий Ягеллон, он имел обширную память, любил всякую активную деятельность, знал толк в развлечениях и отдыхе…
Вильно привлекал короля и великого князя своей простотой и надежностью. Мощь и гордая устремленность ввысь башни Гедимина, врезавшейся в гонимые ветрами облака, успокаивала и вселяла уверенность. Как и его отцу, Казимиру нравилось все в княжестве: и Литва со Жмудью с их нескончаемыми труднопроходимыми дремучими лесами, вековыми напоенными сумрачной тишиной дубовыми рощами, бескрайними весенними разливами вод и равнинно-холмистая, располагающая к спокойствию, Русь. И все это изобилует дивными богатствами природы. Конечно, по просторам княжества уже не гуляют стадами, как в старину, дикие кони, буйволы-туры, но зато свободно обитают лоси, вепри и олени, козы, бобры, а речные заводи и озера всегда кажутся белыми от лебединых стай и серебристокрылых чаек. Все это Казимир любил до самозабвения, оно вносило умиротворение и успокоенность.
Здесь, в Вильно, всегда приходили воспоминания о той судьбоносной тревожной ночи в конце июня 1440 г. Прошло уже 52 года, а все помнится. Его, младшего брата польского короля, не считаясь с неудобствами скорого пути, в сопровождении большой свиты королевских сановников и отряда польских рыцарей спешно привезли в Вильно. Поляки пытались воспользоваться ситуацией, сложившейся после гибели великого князя Сигизмунда Кейстутовича, чтобы еще больше подчинить Великое княжество Литовское Короне Польской, введя наместничество во главе с тринадцатилетним королевичем Казимиром. Но литвины не хотели этого — и уперлись прочно. Практически все решила группировка, сложившаяся в апреле-мае 1440 г. В нее входили виленский епископ Матвей, краевой маршалок Радзивилл Остикович, староста Жемайтии Михаил Кезгайло, Николай Немирович, Петр Мантигирдович, Иоанн Гаштольд и дядя Казимира Георгий Ольшанский. Эти вельможи и предложили взять в Вильно его, брата короля, тринадцатилетнего Казимира. Он неохотно слушал их соблазнительные речи на этот счет, но они так увлекательно рассказывали об охотничьем рае — литовских лесах и пущах, что ему, страстному охотнику, как считали все при дворе, трудно было не согласиться…
Эта группировка, в которой верховодил Иоанн Гаштольд, терпеливо и последовательно, а главное успешно, шла к основной цели — объявлению королевича великим князем. Его, Казимира, быстро убедили, что быть великим князем престижнее, чем наместником короля. Нужен был решительный шаг — и он был сделан. Поскольку пасхальные праздники уже завершились, а в начале лета Богородичных праздников уже не было, избрали день святых православных апостолов Петра и Павла. И ранним утром 29 июня 1440 г., когда большинство поляков еще спали, Казимир был объявлен великим князем литовским. Никто не спрашивал позволения у Польши и не сверялся с договоренностью об унии двух государств. Фактически это было не что иное, как самостоятельный государственный акт, возрождавший независимость Великого княжества Литовского.
Воочию помнится, как литовские паны-рада разбудили его ночью и почти силой привели в Кафедральный собор. В тревожных бликах горящих факелов у входа в костел литовские паны оттеснили от королевича часть польской свиты, стремившуюся ни на шаг не отходить от него. Несколько панов подняли и на руках донесли его до специального возвышения, усадили на позолоченный трон и возложили на голову шапку Гедимина. Иоанн Гаштольд не мешкая сказал ему, что теперь он — великий князь литовский. Ни длинных речей, ни строгих напутствий не было — только из-под свода собора доносился приглушенный, как бы шелестящий, шум толпы. Поддержавший литвинов наставник королевича и главный воспитатель пан Олесницкий — человек невысокого роста, коренастый, с короткими руками и ногами, на лице которого выделялись обвислые усы, густые брови и проницательные глаза — сунул в руку ничего не понимавшему, растерявшемуся Казимиру бумагу и почти бесцеремонно потребовал:
— Ты должен зачитать это сейчас же… Откладывать нельзя…
И Казимир, придвинувшись к ближайшему факелу, зачитал свою присягу на верность Великому княжеству Литовскому, где пообещал никогда не отдавать Польше Волыни, Подолья и Киева. Слушая его, многомудрый пан Олесницкий мысленно просил бога, чтобы все было хорошо с этим премилейшим мальчиком, слабым и нервным, как девочка, но вместе с тем веселым и простодушным, с душой открытой и способной к благороднейшим ощущениям, с сердцем любящим, правдивым и признательным… Выдержит ли столкновение с политикой его восприимчивость, его легкомыслие, доходящее иногда до бессмыслицы, его чрезвычайная способность подчиняться всякому внешнему влиянию и совершенное отсутствие воли…
Когда все свершилось, церковные колокола и ликующая толпа разбудили и остальную часть представителей Польши. Объявляя о полном суверенитете Литвы, паны-рада сумели обеспечить и возможность компромисса с Польшей, которая не собиралась признавать независимость Литвы. Однако момент для Великого княжества Литовского был благоприятен: занятый венгерскими делами, польский король Владислав III не был склонен воевать со страной, отдавшей свой трон польской ветви династии Гедиминовичей, к которой и он принадлежал. В Венгрию, к Владиславу III отправилась литовская делегация. Поляки расценили это как просьбу об утверждении избрания Казимира.
Оформившийся к этому времени панский совет Великого княжества Литовского — паны-рада — оказался на высоте положения. Была создана центральная распорядительная власть, и именно в то время, когда Ягеллоны отвернулись и оторвались от страны, а Кейстутовичи деградировали и вымирали.
Так разрешилась острая проблема, грозившая Великому княжеству смутами и междоусобицами. Вскоре пан Олесницкий объяснил Казимиру, что после убийства внуками Ольгерда, князьями Александром и Иваном Чарторыйскими, а также виленским и трокайским воеводами Довгирдом и Леллем великого князя Сигизмунда Кейстутовича в его собственном замке в Троках, интересы знати разошлись:
— Одни хотели, чтобы великим князем был племянник Витовта Михаил Сигизмундович, — спокойно рассказывал Олесницкий, — другие стояли за приглашение на великокняжеский трон брата Казимира Владислава, третьи хотели снова видеть великим князем Свидригайло, владевшим в это время небольшим княжеством на юге Гатчины.
Но Казимира интересовали не столько устремления различных вельмож, сколько, почему убили великого князя? Он так и спросил Олесницкого:
— Как же эти почтенные люди подняли руку на великого князя? Разве можно?
Олесницкий как бы нехотя разъяснил:
— Это не почтенные люди, а заговорщики. Дело в том, что Сигизмунд Кейстутович, став великим князем и изгнав из княжества Свидригайло, бывшего затем несколько лет пастухом в Молдавии, господствовал как ужаснейший из тиранов. Сжигаемый страстью златолюбия, губил вельмож, купцов, богатых граждан, чтобы завладеть их имуществом. Он не верил людям и вместо стражи держал при себе диких зверей. Но это не спасло князя от ножей убийц, — сказал Олесницкий и продолжил рассказ о том, что ему казалось в этом случае более важным и существенным:
— Польские сенаторы также долго спорили о том, кому быть великим князем литовским. Съезжались и в Краков, и в Варшаву. Пока на последнем заседании пан Богуш, человек лет около тридцати пяти, имевший смугловатое, с едва заметными рябинками лицо, эффектно обопершись на богато украшенную саблю, не предложил:
— Пора, паны сенаторы, в большей мере, то есть крепче, привязать княжество к Короне Польской.
— Этого все хотят, пан Богуш. Но, может быть, ясновельможный сенатор знает и подскажет нам, как это сделать, — вступил по своему обыкновению в рассуждения пан Засинец, самый молодой из сенаторов. Все знали: пан Засинец необычайно умный человек, обладающий чувством юмора и порою бывал просто обворожительным. Любовь была высшим смыслом его существования, а главным принципом — я люблю женщин до безумия, но всегда предпочитаю им свободу. Он был хорош собой, внимателен и щедр. Но, главное, он говорил, говорил, говорил обо всем на свете: о любви, о политике, о медицине, о сельском хозяйстве. Поэтому все внимательно стали слушать.
— Знаю, — Богуш повернулся в сторону пана Засинца, — и говорю вам: вместо должности великого князя литовского нужно ввести в княжестве наместничество короля.
По обыкновению раздался шум: каждый из сенаторов хотел поделиться своим мнением на этот счет с соседом. Но после того как на скамьях установилась тишина, все снова вопросительно обратили свои взоры к пану Богушу. И он продолжил:
— И наместником в Вильно поставить младшего сына Ягайло Казимира. Да, ему только 13 лет, но это означает, что он будет и послушен нам, коронной шляхте, и сговорчив. В конечном счете это позволит повысить роль Короны Польской в руководстве княжеством и скорее сделает его неотрывной частью великой Польши.
Согласие сенаторов было единодушным. Только сидевший в первом ряду старейший, много повидавший на своем веку пан Заремба, пробормотал в седые усы:
— Кажется мне, что не удастся польскому сенату из Ягеллонов веревки вить. Не тот корень…
Но это мнение осталось неуслышанным, и уже через две недели мы с тобою оказались в Вильно… — завершил рассказ Олесницкий. Помолчав, он почтительно обратился к Казимиру:
— Позволь, великий князь, удалиться.
Но это было давно… Почитай около пяти десятков лет, — подумал Казимир. А заботливый и всезнающий Олесницкий рано ушел из этого мира. К сожалению, он не мог видеть, как его, Казимира, великого князя литовского, молодого и полного сил младшего сына знаменитого короля Ягайло избрали королем польским. 10 ноября 1444 г. близ Варны турки разбили венгерско-польскую армию. В пылу битвы Владислав III пропал без вести. Польский трон оказался свободным. И 25 июня 1447 г. в Кракове Казимир был объявлен королем Польши. Новый король обозначил взаимные межгосударственные отношения как дружеские и равноправные, а государственные границы Великого княжества как территорию времен Витовта Великого, т. е. включающую занятые поляками Ратно, Лопатин, Ветлу, Олеску и Западное Подолье.
Не смог Олесницкий порадоваться и успехам первых лет пребывания своего ученика на великокняжеском троне, которые помогли ему упрочить власть. Весной 1443 г. признал верховенство Казимира Свидригайло — главный возмутитель спокойствия в государстве. Ему пожизненно было оставлено Волынское княжество и титул великого князя литовского. Этот компромисс позволил направить усилия против Мазовии, захватившей Подляшье. В начале 1444 г. войско Великого княжества Литовского вступило в Подляшье и Мазовию, захватив и принадлежавший Короне Луков. Литвинам помогали татары. Командовал войсками Иоанн Гаштольд, но номинальным командующим был объявлен следовавший за армией великий князь. Хотя мазовшане были лучше вооружены, все решил численный перевес литвинов и их боевой опыт. Польша реагировала на это болезненно, но в Коронном совете все же возобладали идеи мирной дипломатии.
Великое княжество неуклонно улучшало свое международное положение. Были возрождены дружеские отношения с Новгородом и Псковом, заключен союз с Молдавией. В отношениях с Ливонией Литва все увереннее брала инициативу в свои руки. В 1445 г. казанские татары, стремясь поддержать можайского князя, разорили Вяземскую и Брянскую область. В ответ на это литовские отряды под началом Судивоя, Радзивилла Остиковича, Андрея Саковича и Иоанна Немировича разорили Козельскую, Верейскую, Калужскую и Можайскую области. У Твери был отнят Ржев.
Упрочению власти молодого великого князя во многом способствовал Иоанн Гаштольд. Он разумно сочетал свое влияние с растущими амбициями великого князя, прикрывал свои действия его именем, постепенно втягивая государя в управление и осторожно направляя течение дел в желаемое русло. Скоро он стал канцлером Великого княжества Литовского, традиционно совмещая этот пост с должностью виленского воеводы. По настоянию Гаштольда молодой августейший чужестранец обучился литовскому языку, усвоил литовские обычаи. Казимир везде утверждал, что он — наследник и продолжатель дела своего великого дяди Витовта. К концу сороковых годов удалось ограничить влияние краковского епископа Збигнева Олесницкого, фактически управлявшего Польшей До избрания королем Казимира и требовавшего полного присоединения Великого княжества Литовского к Польскому королевству.
Да, все это — дела давно минувших дней. Сейчас же здесь, в любимом Вильно, Казимир почувствовал недомогание. Князь никому из приближенных, даже своему медику, ничего не сказал, но дня через два появилась уже явно ощутимая слабость. Казимир чувствовал, что силы уходят…
Лекарь, почти тридцать лет бывший при великом князе, по обыкновению пыхтя и кряхтя, долго выстукивал и выслушивал в груди и животе князя и, тоже по обыкновению, ничего не стал говорить.
— Тебе, великий князь, уже седьмой десяток лет, — только и сказал. Вздохнув, добавил:
— Нужно ехать в Краков.
— Скажи искренне и честно, неужели меня ждет смерть?
— Прости, государь, за откровенность… Она всех нас ждет… Это неизбежно, как восход и заход солнца…
Князь жестом отпустил лекаря. Подошел к окну, чтобы по обыкновению полюбоваться видом на Вильно. Но и любуясь панорамой города, думалось об одолевавшем нездоровье. Князь лучше лекаря понимал, что на этот раз болезнь едва ли пройдет: силы уходили, все внутри ныло и болело. Казимир почувствовал реально появившийся в душе страх. Не успокаивало и то, что он никогда не уклонялся от тревожных забот короля и великого князя. В какой-то мере утешало лишь то, что жил и трудился не напрасно. Государственная казна все время пополнялась, хотя приходилось слышать упреки, что двор и королевское семейство не только далеки от роскоши, но и, более того, терпели недостатки от непомерной экономии и расчетливости короля и великого князя… Что ж, лучше быть скупым, чем бедным. Да, это тяготило всех четырех сыновей, склонных ко всякого рода развлечениям. Получилось, как это всегда и бывает, что у бережливых отцов сыновья бывают расточительны. Особенно это присуще Александру… Он миловиден, обаятелен и полон энергии. Но иногда кажется, что все его силы направлены на мотовство и развлечения…
Сейчас он, Казимир, почитается как властелин и Польши, и Великого княжества Литовского. Пока удается держать их в послушании и повиновении даже вопреки трудно объяснимому самодурству и сумасбродству польских панов-шляхты. Да и литовские, и белорусские вельможи, следуя их примеру, не далеко ушли. Вспомнилось совсем уже давнее: как, не пробыв на троне и года, вынужден был передать слуцкому князю Олельке Владимировичу, которого поддержали Иоанн Гаштольд и другие паны, Киевское княжество. Иначе белорусская аристократия взбунтовалась бы. Правда, через тридцать лет княжество было ликвидировано, и в Киев был назначен его, Казимира, наместник.
«Да, вся жизнь прошла в заботах и треволнениях, — подумал Казимир. — Как у всякого властителя. Но быть монархом Польши и Литвы одновременно — вдвойне трудно». Как только возникали затруднения у одной стороны, другая тут же спешила воспользоваться этим и решить свои проблемы. Казимиру вспомнилось, как почти сорок лет назад группировка Гаштольда, воспользовавшись затруднениями Польши, захотела отнять у нее Западное Подолье и часть утраченной Волыни. Хотя понимали паны-рада, что в этом случае им пришлось бы выступить не только против поляков, но и против своего великого князя. Были, разумеется, польские и литовские группировки вельмож, желавшие компромисса. Но понимали они его лишь как достижение собственных целей, избегая при этом крайних мер. Вспомнилась встреча поляков и литовцев в Парчеве, когда обе стороны явились при оружии. Бесконечные споры ни к чему не привели. И когда поляки предложили передать спор на рассмотрение арбитража папы и германского императора, в ответ получили издевательский совет — обратиться к татарскому хану. Литовские представители покинули Парчев, а некоторые при этом отказались от полученных в Городне польских гербов. На Сандомирском польском сейме было даже озвучено предложение о детронизации Казимира.
Породнившись с Олельковичами — знаменитой православной ветвью Гедиминовичей, Гаштольд пытался настроить панов на союз с оставшимися удельными князьями, тем более что появилась якобы основа для этого. В Новгород-Северской земле были выделены владения для бежавших из Московского княжества Ивана Можайского и Василия Шемяки.
Тогда группировка Гаштольдов-Олельковичей вопреки интересам Литвы вовсю разыгрывала карту Большой Орды. Ее хан Сеид-Ахмед ворвался в юго-восточные земли Великого княжества. Казимир обратился за помощью к крымскому хану Хаджи-Гирею. Но разгромленный золотоордынец повернул не в степи, а в Киев, где его принял Симеон Олелькович. По повелению Казимира в Киев было направлено войско под началом русского воеводы Андрея Одрованжа. Поляков поддержал их ставленник в Молдавии Петр. Они взяли Киев, а Сеид-Ахмед с сыновьями попал в неволю и был заключен в виленской тюрьме.
Паны-рада вновь и вновь требовали от Польши вернуть Западное Подолье и обеспечить постоянное пребывание Казимира в Литве. Король польский не мог на это согласиться, и тогда появилась идея избрать великим князем Симеона Олельковича. Но епископ Николай, семья Кезгайло, Иоанн Монвидович поддержали Казимира. А затем к ним присоединился Олехно Судимонтович. Приехав в Вильно вместе с женой великой княгиней Елизаветой Габсбург, он, Казимир, попытался на сейме знати Великого княжества расправиться с Иоанном Гаштольдом, но не получилось. Пришлось купить его терпимость щедрым пожалованием земель близ Жасляй.
А чего стоила ему, Казимиру, тринадцатилетняя война с Тевтонским орденом. Папа Римский по традиции расценил ее как союз с мятежниками против церковной военной корпорации и отлучил короля Польши и великого князя Литвы от церкви. Но тем не менее в результате этой войны Польша получила выход к Балтийскому морю, а великий магистр ордена признал себя вассалом польского короля. Как бы то ни было благодаря его усилиям определенное равновесие между Великим княжеством и Польшей было установлено. Но возникла другая, не менее важная проблема: поскольку внимание рады панов было поглощено отношениями с Польшей, политика в отношении Москвы оказалась заброшенной. А между тем, в Московском государстве внутренние распри Иоанна III со своими братьями Борисом Васильевичем и Андреем Суздальским завершились переходом этих князей в Литву. Они, заявив, что не могут больше жить в Московском государстве, вместе с женами и детьми, с большими дружинами выехали из своих уделов. Посланный Иоанном боярин не смог отговорить их от перехода в подданство великого князя литовского. Остановившись в Великих Луках, они попросили у его, Казимира, заступничества. И он дал им Витебск для прокормления семей. Переходы князей и бояр с обеих сторон были весьма нередки и начались издавна. И этим ловко воспользовался утвердившийся во власти московский великий князь Василий II.
В 1449 г. был заключен договор с Василием II, получивший известность как «Великий акт раздела Руси между Москвою и Вильно». Московит брал на себя обязательство «не вступатися» в вотчину Казимира: «ни в Смоленск, ни в Любутск, ни во Мценск, ни во вси… окраинные места». В свою очередь Казимир отказывался от притязаний на Новгород Великий и Псков. Московский князь обязался жить в мире и любви с литовским, быть с ним везде заодно, хотеть добра ему и его земле. Такие же обязательства взяла на себя и другая сторона. В договоре указывалось, что если татары пойдут на «окраинные места», то московским и литовским князьям и воеводам обороняться заодно. Василий и Казимир обещали друг другу в случае смерти одного из них заботиться о семействе другого. Московского князя в договоре титуловали новгородским. Было обусловлено также, что если новгородцы или псковичи предложат Казимиру принять их в подданство, то король не должен на это соглашаться. Если же они нагрубят великому князю московскому, то Казимиру за них не вступаться.
«Однако, — думал Казимир, — прошло время и в нарушение договора 1449 г. Москва покорила все-таки Тверь».
Это княжество длительное время являлось своеобразным яблоком раздора. К середине XV в. оно оказалось окруженным со всех сторон московскими владениями. Тверской князь Михаил, шурин Иоанна III, понимал, что его княжеству, бывшему когда-то серьезным соперником Москвы и долго спорившим с ней о первенстве, приходит конец. По традиции он попытался защитить себя союзом с великим князем литовским. И между Казимиром и Михаилом установилось взаимопонимание. Даже предполагалось, что тверской князь женится на любимой внучке Казимира Алдоне. Это не на шутку встревожило московита. И он в 1485 г. объявил Михаилу войну. В результате тверской князь отказался от права называться равным братом московского государя и признал себя младшим. Более того, уступил Москве некоторые земли и обязался вместе ходить на войну. В мирной договорной грамоте фиксировалось, что Михаил разрывает союз с ним, Казимиром, и без ведома Иоанна не должен иметь с литовским князем никаких отношений. Равно как и с сыновьями Шемяки, а также потомками князей Можайского, Боровского и других российских беглецов. Михаил тверской и его дети поклялись «вовеки не поддаваться Литве».
Но Михаил Борисович продолжал надеяться на Казимира и готовился к переходу в Литву. Он послал к Казимиру своего человека, но его перехватили москвичи, а письмо Михаила к Казимиру, в котором он уговаривал великого князя литовского выступить против Москвы, доставили Иоанну. Началась осада Твери, а Михаилу все же удалось бежать в Литву. Он получил во владение поместья Белавичи и Гощов в Слонимском уезде, где и прожил до конца жизни. Дочь его вышла замуж за одного из Радзивиллов. На сторону Иоанна перешел князь Михаил Холмский, но московит сослал его в заточение за то, что, целовавши крест своему тверскому князю, отступил от него. Переходы князей всегда имели пагубные последствия. Беглецы обыкновенно подстрекали к войне, вносили смуты и раздоры между великими князьями…
Затем под полный контроль Москвы попала Рязань. Одновременно московский князь совершил нападение на Новгород, которому Литва не оказала никакой поддержки — лишь зять Шемяки Александр Чарторыйский сражался на стороне новгородцев. Казимир чувствовал, что Литва теряла свои позиции, что во всех этих событиях она оглядывалась в прошлое, Москва же смотрела в будущее.
Не так, как хотелось великому князю, складывались в славянских землях Литвы и религиозные дела. В 1456–1457 гг. в Великом княжестве предпринимались попытки назначить у себя независимого от Москвы митрополита. Наконец при согласии Рима в сан митрополита киевского был возведен сторонник объединения православной и католической церквей Григорий. Ему подчинилась часть православных епископов Великого княжества. Через два года московский митрополит Иона созвал церковный собор с целью осудить киевского митрополита, но не все иерархи поддержали его. Но взгляды на религиозные проблемы как, впрочем, и на все остальные не были согласованными. Олельковичи и Юрий Ольшанский не хотели унии. Они даже признали митрополита Иону московского. Ему же подчинились смоленский и брянский епископы. Масло в огонь подлил и отказ Григория подчиняться Риму, и получение им посвящения константинопольского патриарха. Исходя из обычаев русской церкви, следовало признавать его превосходство над Ионой, не имевшим такого посвящения. В целом же вопросы унии, т. е. объединения церквей, разделяли русскую знать Великого княжества Литовского, сеяли вражду. И не только. Сама позиция его, Казимира, опиравшегося на католическое большинство рады панов, и откровенное давление на православие, ограничение строительства новых храмов вызывали неоднозначную реакцию русской элиты княжества: в правящей среде зрело раздражение, часть магнатов и шляхты склонялась к унии.
Не приносили спокойствия и светские, государственные дела. В начале 1471 г., после смерти Симеона Олельковича, киевским наместником был назначен не его брат Михаил, а сын Иоанна Гаштольда Мартын. Ему пришлось применить военную силу, чтобы сломить сопротивление киевской знати и занять свой пост. Правда, женившись на православной дочери Юрия Ольшанского Марии, Мартыну удалось стабилизировать свое положение.
Похоже, что радные паны, как и он, Казимир, не смогли в это время оценить перемены и в татарском мире. Литва возлагала главные надежды на традиционный союз с мусульманским Крымским ханством, за которым стояла могущественная Турция, а разногласия между ним и Большой Ордой считала маловажными политическими манипуляциями. Литва укрепляла связи с Большой Ордой, расценивая их как дополнение к добрым отношениям с Крымом. А на самом деле создавались предпосылки для их ухудшения. А между тем, новый великий князь московский Иоанн III нашел общий язык с могущественным в Крыму ханским Ширинским родом. Он все еще продолжает бить челом Менгли-Гирею, что означает форму обращения вассала.
Главное, думал Казимир, не удалось помешать Москве распространить свое влияние на территориях, жизненно важных для Литвы. Это четко проявилось в Новгороде и Пскове, городах, которые в течение вот уже более двух сотен лет являются камнем преткновения в отношениях Литвы и Московского государства. Великие князья литовские неоднократно предлагали свое покровительство Новгороду, однако оно отвергалось, главным образом из-за иной веры литовских князей Гедиминовичей. Однако по мере роста опасности попасть в прямое подчинение Москвы в Новгороде увеличивалось число сторонников объединения с Литвой. А совсем уж недавно — всего пятьдесят лет назад — в Новгороде была смута, вызванная стремлением знатных людей присоединиться к Великому княжеству Литовскому: «вельможи же града вси и старейшины хотяху латыни приложиться и их кралю повиноваться…» Видя, что все недовольные, лишенные отчин князья Северо-Восточной Руси ищут защиты у великого князя литовского, который одновременно назывался и русским, новгородцы также обратились за помощью к нему.
При этом сторонники сближения с Литвой утверждали, что это не несет опасности православию, что в старом Киеве такой же православный митрополит, как и в Москве. Чтобы противодействовать этим настроениям, Иоанн III отправил новгородскому епископу послание-наставление: «Тебе известно, откуда пришел этот митрополит киевский Григорий и от кого поставлен; пришел он из Рима, от Папы, и поставлен в Риме же бывшим цареградским патриархом Григорием, который повиновался Папе с осьмого собора. Ты знаешь также, за сколько лет отделилась греческая церковь от латинской, и святыми отцами утверждено, чтобы не соединяться с латинством. Ты должен хорошо помнить, какой обет дал ты Ионе-митрополиту, когда приезжал к нам в Москву: ты обещал не приступать к Григорию, не отступать от Ионы-митрополита всея Руси и от его преемников… Так если тот Григорий начнет посылать к тебе или к новгородцам с какими-нибудь речами или письмами, то ты, богомолец наш, поберегись и своим детям внуши, чтоб Григорьеву посланию не верили, речей не слушали и даров не принимали».
В конце 1470 г. в Новгороде сторонники Москвы захватили духовные, а сторонники Литвы — светские властные позиции. Последние группировались вокруг сыновей покойного посадника Исаака Борецкого и руководившей ими матери Марфы-посадницы, женщины энергичной и гордой. Она хотела освободить Новгород от влияния московского князя и даже, как говорили многие, выйти замуж за литовского вельможу, чтобы вместе с ним от имени его, Казимира, править городом. Она неустанно славила великого князя литовского, убеждая граждан в необходимости искать у него защиту от Иоанна III. Новгородцам внушалось, что они вольные люди, а не отчина князей московских, что им нужен покровитель в лице Казимира. Новгородское вече не только возвысило прибывшего из Литвы со множеством панов и витязей Михаила Олельковича, но и потребовало признать его сюзереном великого князя литовского, а не московского. Да и явился он по просьбе новгородцев. И раньше новгородцы принимали с честью литовских князей и давали им кормление в пригородах. Это, как правило, не вело к разрыву с московскими князьями, которые также продолжали держать в городе своих наместников. Но в случае с Михаилом Олельковичем проявилась другая ситуация: его пригласили не для защиты от шведов или немцев, как это бывало прежде, а для усиления пролитовской партии, для противостояния Москве. Новгородцы даже составили весной 1471 г. договор о военном союзе с Литвой. Прошло более тридцати лет, а воочию вспомнилось, как он принимал богатое посольство Новгорода, какой неожиданностью для него явилось предложение стать главою новгородской державы на основании древних уставов ее гражданской свободы. Вспомнились колебания и сомнения, охватившие его тогда. Но все же он принял все условия и подписал договорную грамоту, в которой объявлялось о заключении союза с владыкой Феофилом, с посадниками, тысяцкими, «людьми житыми», купцами и со всем Великим Новгородом. Казимир обязался держать в городе своего наместника православной веры вместе с дворецким и тиуном. Наместнику предоставлялось право судить бояр, простых граждан и сельских жителей. В суд тысяцкого, владыки и монастырей он не мог вмешиваться. Великому князю литовскому, княгине литовской и панам запрещалось выводить из Новгорода людей, покупать села и рабов. И, конечно же, Казимир взял тогда на себя обязательство не касаться православной веры. «Где захотим, там и посвятим нашего владыку, в Москве или в Киеве, а римских церквей не ставить нигде в земле новгородской». Это требование новгородцы выдвинули тогда как безусловное. Отдельно оговаривалось, что если московский государь пойдет войною на Новгород, то великий князь литовский, а в его отсутствие рада, должны без промедления оказать новгородцам помощь.
Но он, Казимир, в это время практически отдал Новгород воле великого князя московского: на первый план выходили другие проблемы — отношения с Пруссией, Богемией, Венгрией. Да и польская знать отказалась поддержать его. А в июле 1471 г. на берегу Шелони новгородцы были жестоко разгромлены московскими войсками. Они потеряли 12 тыс. убитыми и тысячу семьсот человек пленными. Обещанная Казимиром помощь не подошла. Так были окончательно похоронены и сами перспективы влияния Великого княжества Литовского на Руси. Новгород был объявлен вотчиной великого князя московского.
Пскову же удалось сохранить самостоятельность. Но, опять-таки, благодаря постоянному старанию угодить московскому великому князю, покорностью утишить его гнев. И Рязань сохраняла свою самостоятельность только потому, что на самом деле беспрекословно подчинялась распоряжениям великого князя московского.
Счастливый потомок целого ряда умных, трудолюбивых, бережливых предков, Иоанн III вступил на московский престол, когда дело собирания Северо-Восточной Руси могло почитаться завершенным. Татарская Орда падала сама собой от неустроенности и усобиц. И стоило только воспользоваться этим, чтобы так называемое татарское иго исчезло без больших усилий Москвы. Что, собственно, и сделал Иоанн.
Король польский и великий князь литовский не может помешать Москве в ее усилении. Спокойный, единовластный московский князь удачно пользуется счастливыми внешними обстоятельствами, затруднительным положением соседей и не устает напоминать, что Киев, Смоленск, Витебск и Полоцк издавна являются вотчинами его предков. К тому же державы Западной Европы узнали, наконец, что на северо-востоке существует обширное самостоятельное Русское государство, кроме той Руси, которая подчинена польским королям, и начинают отправлять в Москву послов, чтобы познакомиться с этим государством.
Мысли князя, уютно устроившегося в кресле перед окном, текли подобно низким, сплошным облакам над Вильно: ровно и спокойно. Засилие вельмож и шляхты, бывает, выходит за всякие разумные пределы. К голосу короля и великого князя даже обносившийся шляхтич может не прислушиваться. Была бы сабля на боку и право не считаться с мнением даже великого князя. Но вопреки этому положение государства прочно. Постоять шляхта за себя, если возьмется за дело, может. И храбрости, и денег в этом случае хватает. Да и авторитет его, государя, здесь, в Литве, достаточно высок. Ему удалось вернуть в состав Великого княжества принадлежавшую Польше Дрогичинскую землю, закрепить Волынь, окончательно присоединить Жемайтию.
Западные европейские страны стали уважать короля польского и великого князя литовского. Чехи избрали себе королем его сына Владислава, хотя претендовали на чешский трон и сын умершего короля Юрий, и Матвей, король венгерский, и германский император Фридрих. А иные из шляхты хотели короля французского. На этой почве возникли междоусобицы. Пришлось, отправляя Владислава в Прагу, дать ему значительный воинский отряд. Взбунтовавшиеся подданные венгерского короля также прислали к нему, Казимиру, просить к себе в короли его другого сына. Послы даже угрожали в случае отказа поддаться туркам. Пришлось и второго сына, названного по настоянию его матери Альжбеты Ракушанки в честь отца также Казимиром, отправить в Венгрию с двенадцатитысячным отрядом. Хотя утвердиться на венгерском престоле и не удалось, но сама просьба венгров говорила о многом. Помнится в Польше и Великом княжестве Литовском все отнеслись к ней благосклонно. Хотя по большому счету он, Казимир, понимал, что его отвлечение делами западных соседей привело к нежелательным событиям на востоке и, в частности, полному подчинению Москве Новгорода. «Но это неизбежно, — подумал себе в утешение князь. В одном приобретаешь — в другом теряешь». В последнее время заботы, связанные с Москвой, как и с крымчаками, турками, преследуют его неотступно даже в дни отдыха и веселья. Особенно тревожит, что на границах с Московским княжеством практически нет мира. И московские, и литовские князья, живущие на границе, постоянно ссорятся, а это значит постоянно идут разбои, опустошения и просто захваты волостей. Со всем этим разбираться нужно великому князю.
Повод для «порубежных» столкновений давали сами пограничные князья, большей частью потомки черниговских, часть из которых находились в зависимости от Литвы, другая же от Московского княжества. Продолжая старые родовые споры, они беспрепятственно ссорятся между собой, переходя из одного подданства в другое. Что сказывается и на отношениях обоих государств.
А диалог великих князей по этому поводу напоминает разговор глухих. Иоанн извещает Казимира: «Что служил тебе князь Дмитрий Федорович Воротынский, и он нынче нам бил челом служить, и тебе бы то ведомо было». На это Казимир отвечал, что не выпускает из подданства ни князя Дмитрия Воротынского, ни князя Ивана Белевского, что князь Дмитрий перешел с уделом своего брата, князя Семена, что он, помимо того, взял и казну брата, а также захватил его бояр, слуг и заставил служить себе. Иоанн отвечал на это: «Ведомо королю самому, что нашим предкам, великим князям, князья Одоевские и Воротынские на обе стороны служили с отчинами, а теперь эти наши слуги старые к нам приехали служить с своими отчинами: так они наши слуги». Казимир жаловался, что русские заняли Тешиново и волости, а брат великого князя московского Андрей Можайский взял у Вяземского Ореховскую волость. Из Москвы отвечали, что князь Андрей никаких вяземских волостей не брал, что, напротив, люди Литвы наносят много вреда его владениям. Великий князь литовский жаловался на опустошение русскими Торопецких, дмитровских и других волостей. Ему отвечали жалобами на опустошение литовскими людьми калужских, медынских и новгородских…
Тем не менее открытой войны не было. У Казимира не хватало для этого средств. Иоанн, как правило, избегал решительных действий, если они не приносили гарантированного результата.
И если бы только с этими трудностями приходилось разбираться. Сколько и помнит себя королем польским и великим князем литовским, всегда был зависим от вельмож и шляхты, от сейма. Часто чувствовал полное бессилие. В Петркове на сейме малополяки выставили условия: дескать, о денежном воспоможении для войны с Москвой и не говори, пока не выдашь подтверждение наших прав и не означишь в грамоте, какие области принадлежат Польше, а какие Литве. Король до сих пор помнит разодетого в вышитую золотом одежду и украшенного драгоценными камнями пана Вотрубу, который, предъявляя эти требования, то и дело становился в красивую и горделивую позу. А депутаты сейма аплодировали, криком и стуком сабель о пол выражали свое одобрение.
Никто из них и знать не хотел о том, мог ли король, зависевший во всем от сеймов, успешно бороться с великим князем московским, который полностью, по своей воле располагал силами всего государства? И который к тому же мнил себя царем, басилевсом, равным ромейскому. Поэтому-то Москва ущемляет, унижает Великое княжество Литовское, оттесняет его на запад, захватывает издревле принадлежащие ему земли. И с этим приходится мириться. Перед силой кто устоит?
Казалось бы, опасность с востока должна заставить и Псков крепче держаться Великого княжества Литовского. Он ли не ласкал псковичей, не принимал и не отпускал их послов с честью и великими дарами? Но понимания до конца как не было, так и нет. Как-то съехались псковские послы на съезд с литовскими панами, четыре дня толковали и разъехались, не достигнув никакого, даже маломальского согласия. Весной следующего года король объявил, что сам приедет на границу и своими глазами осмотрит спорные места. Но удивительное дело: на своем вече псковичи объявили, что это им не любо. Мало того, псковичи продолжали чинить в своем городе обиды виленским и полоцким купцам. А как трудно им, псковичам, станет, как наступят им на хвост немцы — тут же бегут за помощью к великому князю литовскому, говоря при этом, что бьют челом своему господину, честному великому королю о том, что немцы вступают на землю святой Троицы, на отчину великих князей, что супостаты пригороды захватывают, волости жгут, христианство посекают и в полон берут. Псковичи могут удивить кого хочешь: как-то при очередной жалобе на немцев послы поднесли ему, королю Казимиру, в дар от Пскова пять рублей, да от себя полтора рубля. Не забыли и о королевичах — им поднесли по полтине. Одарили и королеву — от Пскова рубль, да старший посол от себя полтину, а младший — венгерский золотой. По этому случаю весь королевский двор злорадствовал — ну и отстегнули псковичи от щедрот своих.
 ТЕЛЕГРАМ
ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник
Книжный Вестник Поиск книг
Поиск книг Любовные романы
Любовные романы Саморазвитие
Саморазвитие Детективы
Детективы Фантастика
Фантастика Классика
Классика ВКОНТАКТЕ
ВКОНТАКТЕ